|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 103 / Апрель 2013 Рецензия
|
|
||||||||
|
Статус Маргариты Хемлин в современной российской словесности не совсем обычен.
С одной стороны, успех налицо: книги выходят в больших коммерческих издательствах («Вагриус», «Астрель») вполне солидными по нынешним временам тиражами, выдвигаются на премии, имеют прессу. С другой — в глазах знатоков эти обстоятельства скорее компрометируют писателя. Особенно первое, ибо большие коммерческие издательства России все больше специализируются на «актуальной» в том или ином отношении беллетристике с немудреными внешними признаками художественности — по позднесоветским образцам. Для книг же более сложных время от времени возникают своего рода гетто, вроде недолго просуществовавшей серии «Уроки русского» в издательстве «Текст». Но для Хемлин позднесоветский мир — скорее источник материала, а не художественного языка. Подверстать ее к так называемому «новому реализму» невозможно — иной уровень мастерства, глубины, культуры письма.
Есть и еще одно обстоятельство, не менее важное. Хемлин пишет «про евреев». Не в том числе, не по большей части, как Асар Эппель, Фридрих Горенштейн, Олег Юрьев, Юлия Кисина, Александр Мелихов, — а только и исключительно. Во всех опубликованных ею за восемь лет произведениях (три романа, пять повестей и одиннадцать рассказов) главные герои — евреи и главные коллизии так или иначе связаны с их еврейством[1]. Тут тоже, само собой, имеется соответствующее гетто — серия «Проза еврейской жизни», чей выход в том же «Тексте» обеспечен сторонним финансированием. Но Хемлин существует за ее пределами. Она устойчиво востребована и тем читателем, которому, в общем-то, не особенно интересен ее тематический ряд. И это тоже нуждается в осмыслении.
Что прежде всего обращает на себя внимание в прозе Хемлин?
Каждый человек должен отчитываться. Если есть коллектив — отчитайся перед коллективом. Если нет коллектива или личное положение другое — все равно найди перед кем, и будь добрый, отчитайся. Причем на совесть. Этим беззаветным отчетом человек и отличается от животного мира.
Будем откровенны. Жизнь людей, с которыми я имел дело в своей профессии, сложилась таким образом, что она не сложилась. Судьба строится на основе отсебятины. А отсебятина — тяжелая вещь. И не каждому под силу соотнести.
Вне всякого сомнения, это была любовь. И даже не имея возможности близкого общения, мы бродили по Мариинскому парку среди вековых каштанов, стояли, обнявшись, и смотрели с высоты на прекрасный Киев, который отстраивался стремительными темпами после варварских разрушений войны.
Это цитаты из романов Хемлин — «Крайний» (2010), «Дознаватель» (2012) и «Клоцвог» (2009). Что перед нами — «сказ» в том смысле, в каком мы применяем это слово к произведениям Лескова, Бабеля, Зощенко, Шергина, Шолом-Алейхема, Менделе Мойхер-Сфорима? Нет, это не устная речь. И не речь «простого человека». Это письменная речь советского полуинтеллигента — со специфическими клише, неуклюже соединенными между собой. Эти клише, эти мертвые обороты кем-то придуманы, чтобы скрыть, спрятать страшную, кровоточащую, корчащуюся, неуютную, вонючую, воющую реальность. И у людей мало-мальски изощренных это выходит. Но герои Хемлин — не слишком изощренные. Майя Абрамовна Клоцвог, учительница математики со средним специальным образованием, — самый «высококультурный» из ее героев, остальные — проще. А потому жизнь в ее экзистенциальной жесткости и абсурде лезет из всех дырок их немудреного повествования.
Только речь, не дай бог, не о «чернухе». Даже сюжет «Дознавателя», где соединены два расхожих детективных приема (рассказчик и есть убийца; следователь и есть убийца), — лишь повод для взлома картины мира, конституированной формами письменной речи. И добродетели работника следственных органов Цупкого, и его семейное счастье, которое он так старательно подчеркивает при каждом удобном поводе, — все оказывается фикцией. Личное и домашнее благополучие, за которое бьется Майя Абрамовна, оборачивается — раз за разом! — предательством и одиночеством. Это расплата? За что? За эгоизм? Но ведь не для себя же в первую очередь Майя Абрамовна хлопочет — для детей. Для детей, которые покидают и забывают ее в старости. Почему Клоцвог в глазах окружающих — даже собственной матери — кажется чудовищем?
Ложь — вот ответ на вопрос. Ложь, в том числе бытовая, житейская, вроде бы простительная, но создающая невероятно запутанные и бредовые жизненные ситуации. Однако прежде всего — ложь о себе, о своей сущности. Попытка уйти от нее.
И важнейшая часть этой сущности для героев Хемлин — еврейство. Именно от него большая их часть настойчиво и безуспешно пытается уйти. А меньшая часть так же безуспешно стремится обрести уже утраченное. Если тема глубинного экзистенциального неблагополучия и бытовой неустроенности, которую пытаются неловко загримировать, отсылает к Людмиле Петрушевской, то мотив ложной/разрушенной идентичности — это уже напоминает Филипа Рота. Например, Берта Ротман из повести «Про Берту», по стечению обстоятельств ставшая немкой по паспорту и прожившая жизнь в соответствии с этой записью, — вполне ротовский сюжет.
Но это — Рот по-советски.
Потому что уникальность положения евреев в стране победившего социализма заключалась не в дискриминации как таковой — и евреев много где дискриминировали, и в Советском Союзе много кого дискриминировали. Едва ли статус немца или крымского татарина в послевоенном СССР был комфортабельней. В книгах Хемлин важное место занимают ходившие в 1952 году слухи о предстоящей депортации евреев — депортации, которая, возможно, и не планировалась как таковая (а планировалась пытка страхом: слухи же не сами собой пошли в народные массы). Другие же народы действительно были депортированы. И все же слово «немец» или «татарин» никогда не было неприличным. Именно это восприятие еврейства как постыдной семейной тайны, как неприличия тонко фиксируется Хемлин. Дознаватель Цупкой удивляется тому, что его собеседница «и при таких нелицеприятных словах» — «еврей», «еврейский» — не понижает голос. Привык, что понижают. А еще лучше совсем не произносить их или заменять эвфемизмами.
Похоже, для Хемлин очевидна ответственность самих советских евреев за такое положение дел. «Это же надо так воспитать своих собственных детей… чтобы они от одного названия своей родной национальности шарахались и бесились!» Что можно ответить на жесткие слова, сказанные Майе Абрамовне школьной учительницей ее дочери? Учительница права. Дискриминация много где проводилась, но нигде евреи не реагировали на нее так.
Почему? Потому, что без религиозной составляющей еврейство, сведенное к «национальности», перестало быть тем, за что стоит держаться?
Видимо, да. Ведь и для тех, кто любой ценой стремится уйти от этой «нелицеприятной» сущности, и для тех, кто пытается к ней вернуться, она оказывается неопределимой — утрачены определяющие ее понятия. «…Еврейский партизан ничем не отличается от любого другого. Не считая того, что он еврейский». Слово «партизан» можно заменить на любое другое. Еврейское начало эмпирически очевидно… но неуловимо. Неопределимо этими словами.
Еврейские книги, молитвенники, предметы быта и религиозного культа, собранные в сарае у Иосифа, героя одной из повестей (своего рода этнографический музей), непонятны для него почти так же, как для его невестки (и заодно любовницы!) Риммы, которая выбрасывает их на помойку — «акцию устроила», «окончательно решила вопрос», по жесткому его, Иосифа, определению. Непонятны — как для рядового посетителя любого этнографического музея.
Единственное, что абсолютно отчетливо и реально, — это память о Катастрофе, об «окончательном решении». Казалось бы, это почти стереотипно для еврейского писателя новейшего времени. Но и здесь у Хемлин все не совсем так, как у ее советских предшественников, например — Григория Кановича или Марии Рольникайте. Холокост — это травма, это взрыв, из которого люди выходят контуженными, полубезумными, как несчастный Фима Суркис, первый муж Майи Клоцвог, второй из трех (или четырех — как считать) отцов ее сына. Но это — не момент истины, проясняющий, кто чего стоит. Этические оценки сомнительны, суд над большинством людей почти невозможен. «Невиноватых нема. Гиб гизунд» — как учит старуха Сима, жена парикмахера Рувима Нелидского из романа «Крайний». Нисла Зайденбанда, будущего еврейского партизана, спасает полицай Дмитро Винниченко, отец его друга. В этом — вся Украина, где пособник оккупантов и «праведник мира» могли оказаться одним и тем же лицом, настолько запутанно и противоречиво складывались там отношения — и межнациональные, и межличностные. В рассказе «Темное дело» евреи избивают девушку Бэллу, свою соплеменницу, которая после войны вслух призвала проявить к бывшим полицаям милосердие. Но при том полицаи — не те, «хто сам стрелял», а «такие, шо не сильно» — спокойно сидят в клубе, бывшей синагоге, вместе с родственниками своих жертв…
Хемлин — русский писатель не только еврейской, но и украинской темы. Чувствуется, что сама возможность игры с двумя близкородственными языками, перехода с одного на другой и обратно увлекает ее, как Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» или Лескова в «Заячьем ремизе». Украина, Северо-Восточная Украина, Черниговщина — место действия почти всех ее произведений. Маленький город Остёр — ее «Йокнапатофа». Отсюда тянутся и здесь сходятся все концы, все сюжетные нити. В довоенном Остёре евреев — большинство, но это не местечко, не Бердичев. Здешние евреи в социально-психологическом, культурном отношении иногда настолько сливаются (под пером Хемлин!) с окружающим населением, что создается ощущение: писатель проверяет еврейскую особость на прочность.
Хотя все-таки в первую очередь дело, думается, в другом.
Я сюда ехал, так в одном месте на еврейскую свадьбу попал. Ну что за нация! У них половину поубивали по-всякому. И детей, и стариков, и все на свете. Чтоб следа не осталось. А они опять женятся. Опять рожают жиденят. Как ничего не было. Хоть бы жить после такого ужаса постеснялись. А они живучие.
Так говорит Цупкой, дознаватель и убийца. Собеседник отвечает ему, что «все нации живучие» и что украинские крестьяне после голода 1933 года, когда «еще ямы шевелились» (а устраивали Голодомор в том числе и родители Цупкого, о чем собеседник не забывает ему напомнить), вели себя так же.
Эта простонародная, физиологическая живучесть в безумном, утратившем стержень мире, мире после Катастрофы, судя по всему, привлекает Хемлин. Живучесть, в основе которой — доверие к судьбе, ее запутанности и непредсказуемости. Кажется, Иона Ибшман, еврейский очарованный странник из повести «Про Иону», — ее любимый персонаж. Стихийный, сокровенный человек. Но так же стихиен в романе «Крайний» Янкель Цегельник, кузнец и партизанский командир, мощный человек, народный герой, бессильный перед своей любовью и болью. В жизни «нестереотипных» евреев, грузчиков и кузнецов, обнаруживается библейская глубина, не подчеркиваемая прямыми аллюзиями и параллелями, давно ставшими пошлостью. Это шире и старше еврейства как этнографической сущности. Это то, что лежит в основе еврейства как сущности метафизической.
Но судьбы часовщиков, парикмахеров, адвокатов, мещан и полуинтеллигентов, прячущихся от своей судьбы и от себя самих, столь же запутанны и увлекательны. Непредсказуемость жизненных сюжетов, парадоксальные переплетения человеческих путей — все это увлекает Маргариту Хемлин не меньше, чем «чужая речь». Не случайно короткие рассказы — слабейшая часть ее творчества: сюжет не успевает развернуться и оборачивается «анекдотом», а рассказы-анекдоты пишут многие. Хемлин же — писатель длинного дыхания, что, между прочим, особенно ценно: сейчас таких мало. За восемь лет Хемлин напечатала много. Это вполне компенсирует поздний (в сорок пять лет) дебют. Будем надеяться, что следующие ее книги окажутся не менее интересны. Любой участок человеческой жизни неисчерпаем. Город Остёр уже вошел в русскую литературу. Как вошел, к примеру, Чегем. Будем ждать новых вестей оттуда. [1] Хемлин М.М. Живая очередь: Повести и рассказы. М.: Вагриус, 2008. 368 с.; Она же. Клоцвог: Роман. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, 2009. 272 с.; Она же. Крайний: Роман. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, 2010. 288 с.; Она же. Дознаватель: Роман. М.: Астрель, 2012. 416 с. |
 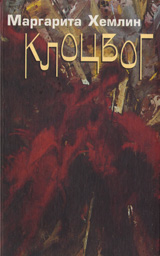 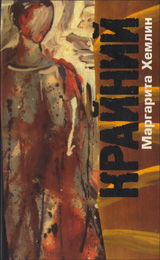  |


