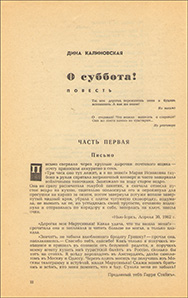|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 108 / Февраль 2014 Рецензия
|
|
||||||||
1
Дора Мешалимовна (в быту Дина Михайловна) Берон, чертежник-конструктор по профессии, писательница по призванию и амбициям, переехала в Москву из Одессы в середине 1960-х.
Время было неудачным. «Оттепель» заканчивалась… Нет, мы не хотим сказать, что хрущевское время было в целом более свободным, чем последующая «застойная» эпоха (это не так), а энтузиазм «возвращения к ленинским нормам» — явно не то, что заслуживает сочувственных вздохов. Но за первые годы послесталинских послаблений открылось некоторое количество вакансий «советских писателей с человеческим лицом», в разном направлении и в разной степени неортодоксальных, — вакансий, которые, естественно, оказались сразу же заняты. А с конца 1960-х они почти перестали открываться — наоборот, «ставку» в случае смерти или эмиграции ее обладателя норовили сократить.
Дина Берон пыталась социализироваться в качестве драматурга и киносценариста — это были отдельные цехи с отдельными правилами и возможностями самореализации. Но — не вышло, хотя одну ее инсценировку благожелательно прочитал Олег Ефремов, другую пьесу Высоцкий рекомендовал Любимову, фильм по ее сценарию хотел снимать Говорухин… И все же — ничего поставлено не было. После нескольких лет в Москве — комната у какой-то старухи (в обмен на уход), пальто из полушерстяного детского одеяла, прописка по фиктивному браку, служба — сперва руководителем детского музыкального кружка, потом в конструкторском бюро, по старой специальности. Полный набор неудачницы.
И вдруг в 1969 году, в тридцать пять лет, все меняется. Брак с успешным художником (фамилия Калиновская — по мужу), возможность не служить ради заработка и не торопясь писать… А затем начинаются публикации, история которых любопытна и показательна для эпохи.
В 1974 году Калиновская закончила небольшой роман «О суббота!». Действие происходит в Одессе. Советскому редактору и/или цензору следовало насторожиться: про евреев. Не то чтобы полностью запрещенная тема, но ограниченная определенной «процентной нормой». В которую, разумеется, гораздо проще было попасть писателю «с именем» (как позднее — Анатолию Рыбакову). Тем не менее существовали обходные маневры. Например, рекомендация «литературного генерала» — и с этим как раз все сложилось отлично: роман предложил «Новому миру» сам Валентин Катаев. Однако сработал другой маневр — знаменитого одессита опередил его зять Арон Вергелис, напечатавший «О субботу!» в «Советиш геймланд» — под названием «Старые люди», в переводе на идиш (вопреки утверждению Людмилы Абрамовой, автора послесловия к книге «Парамон и Аполлинария»[1], имя переводчика, Ширы Горшман, в той публикации указано). В результате оригинал романа увидел свет лишь через пять лет и в «Дружбе народов» — уже как произведение «литературы народов СССР» (на таковые процентная норма не распространялась, точнее — тоже имелась процентная норма, но более вольготная). А в «Новом мире» появился рассказ совсем на ином материале — не одесском, не еврейском, а деревенском, вологодском.
Так или иначе, Калиновская успешно входила в советскую литературу. Две публикации в толстых журналах — маленький роман и длинный рассказ — это по тем временам значило много. Обычно за этим следовала книга — и действительно, книга стояла в издательском плане «Совписа». Роман «О суббота!» оказался к тому же сверхуспешным — переводы на пять языков, в том числе почему-то на японский.
А потом вдруг все сломалось — в одночасье и по нетривиальной причине. Калиновская сотрудничала в «Литературке». Однажды ее отправили в Узбекистан, в передовой совхоз. Очерк про этот совхоз и его директора товарища Адылова она написала так, как принято было тогда писать про директоров передовых совхозов. Вскоре Адылов стал одним из главных фигурантов громкого «хлопкового дела». Газета спешно отреклась от очерка, объявив выбор темы инициативой корреспондента. Калиновскую вызывали в суд как свидетеля, пытались даже доказать, что газетный материал заказан и проплачен самим Адыловым, потом обвинения сняли, но это уже никого не интересовало: договор на книгу разорвали, публикации везде, кроме «Советиш геймланд», прекратились. В сочетании с личными бедами это подкосило писательницу: Калиновская замолчала. Замолчала — и о ней почти на четверть века забыли. Отдельной книгой роман «О суббота!» вышел лишь за год до смерти автора[2].
2
Случайно все это произошло или нет? Тут есть о чем поразмышлять. Можно сказать: система выталкивала чужих, не мытьем, так катаньем. Но насколько чужой была Калиновская и — главное — почему?
Антисоветчицей она, во всяком случае, не являлась, но, собственно, как раз политические антисоветчики, за редким исключением, антропологически представляли собой людей абсолютно советских: отвечать «нет», когда положено отвечать «да», или наоборот — значит соглашаться с самой постановкой вопроса. Но в тоталитарном государстве оппозиции «свой-чужой» не сводились к политике — и даже не в первую очередь определялись политикой. Существовали установленные рамки, правила описания реальности, которые менялись, трансформировались, но не исчезали. Советский писатель нюхом, шестым чувством понимал их и в открытую не нарушал, но зато старался немедленно заполнить весь объем разрешенного — вне зависимости от наличия или отсутствия художественной необходимости. Дело обстояло так же, как и с товарами в магазинах: может, мне и не нужны сегодня полукопченая колбаса или югославские туфли, но надо брать, завтра не выбросят.
Как с этой точки зрения воспринимается роман «О суббота!»? Сложный вопрос.
С одной стороны, сам сюжет — на грани возможного: старик, когда-то, в юности, бежавший с Украины в Турцию, в Гражданскую войну вернувшийся, а затем снова исчезнувший, в 1960-е приезжает в Одессу из Америки и встречается с друзьями юности. С другой — никто из героев романа, обращаясь памятью к прошлому, не вспоминает, например, ни о каких репрессиях. Только о погибших на войне — именно так это формулируется, хотя по большей части речь, видимо, идет об узниках гетто. Холокост как таковой прямо упоминается только раз — в связи с зарубежной жизнью Гарри Стайна, бывшего Гриши из местечка Кодыма: в Голландии во время войны он «выкупал евреев» — выкупил, между прочим, и двух маленьких сирот, ставших его детьми. Или вот еще мелкая деталь: один из братьев американца Герша-Гриши-Гарри боится с ним встречаться. По «семейным», так сказать, причинам: сын — военный, на секретной работе, а внук мечтает о карьере дипломата. Ну не бывали в позднем СССР евреи (даже полуевреи) дипломатами. Офицерами (особенно по технической или медицинской части) — вполне себе бывали, секретными учеными — бывали и даже часто, несмотря на все рогатки, а вот дипломатами — нет. И если внук этого по юности не понимает, то родители-то его должны…
Все это легко было бы принять за самоцензуру, если бы не одно обстоятельство: упоминать про «незаконные репрессии», во всяком случае намекать на них — как раз немножко дозволялось. Говорить про Холокост — тоже можно было «в меру», в очень небольшую меру, но все же… А если «немножко можно», то трудно представить себе сколько-нибудь либерального советского автора, который бы этим не воспользовался — по вышеуказанным причинам. «Завтра не выбросят». Создается впечатление, что внутренний рисунок романа, его язык, пропорции упоминаемого-неупоминаемого — всё строится по каким-то другим законам, совершенно внеположным цензурно-издательским условиям эпохи.
«Дружбу народов» с романом Калиновской зачитывали до дыр, потому что это про евреев и потому, что это напечатано. Но Калиновская не писала специально «про евреев», тем более с какими-то особыми общественными целями, с каким-то «месседжем» или вызовом. Она писала про свою семью, про свою мать, ставшую прототипом главной героини романа (даже имя не изменено: Мария Исааковна). Само собой, это была еврейская семья, это был еврейский опыт — вот это само собой отличало ее, с одной стороны, от Рыбакова, старающегося доказать читателю и властям (для писателя его поколения и типа это более или менее одно и то же), что советские люди еврейской национальности — таки советские люди и имеют право свою еврейскую национальность чтить и помнить, с другой — от Горенштейна, чьи отношения с родным Бердичевом так трагически напряжены. Не то чтобы отношения Доры-Дины Берон-Калиновской с родной Одессой безоблачны, но все-таки это конфликт иного рода и уровня.
3
А теперь главное — что это за Одесса?
Катаев хвалил Калиновскую за то, что та не стала «одесской писательницей, подражательницей Бабеля», за то, что обращалась к разным темам и разному материалу. Но не в темах же дело. Едва ли сам Катаев искренне готов был поставить знак равенства между понятиями «одесский писатель» и «подражатель Бабеля», отнеся к последним и себя, и Олешу, и Ильфа с Петровым. Другое дело, что все-таки настоящая альтернатива бабелевской Одессе в русской литературной мифологии появилась, кажется, только в последнее десятилетие, когда квалифицированный русский читатель вспомнил и включил в ряд отечественной классики Владимира Жаботинского и его книгу «Пятеро». Оказалось, что рядом с миром Менделя Крика и Пятирубеля существует еще и мир благородного хлеботорговца Мильгрома, знающего наизусть немецких поэтов-романтиков. Мир местечкового патрициата, соприкасающийся, с одной стороны, с миром Моти Банабака (тот же Беня Крик, в сущности), с другой — с миром добрых русских бар Руницких.
Судя по роману «О суббота!» и примыкающему к нему, являющемуся его своеобразным «приквелом», рассказу «Рисунок на дне», Дора Берон и по отцовской, и, в особенности, по материнской линиям происходила именно из этой среды: отец учился фармацевтике в Бухаресте, у матери дочь спрашивает имя поэта Вяземского — и та отвечает: очевидно, царская гимназия зря не пропала. Из поколения в поколение, сквозь десятилетия советской нищеты, передается реликвия: чашка с картинкой на дне, последняя из старинного сервиза. А вот семейное серебро не сохранилось — его снес в комиссионку сын Марии Исааковны, брат Симоны-Серафимы (Доры-Дины?).
Параллель с Жаботинским (а читала ли его Калиновская? — вряд ли) возникает вот почему: в рассказе мать называется уменьшительным именем — Маруся, хотя все окружающие зовут ее по-иному: Маня. Ну, и муж-фармацевт. Конечно, та высокомерная и усталая пожилая женщина, которая возникает под пером Калиновской, мало похожа на сияющую Марусю Мильгром, но почему-то мимо подобных совпадений пройти трудно.
При этом пластикой, способом писания Калиновская не похожа ни на Бабеля, ни на Жаботинского, ни на Олешу — ни на кого из знаменитых одесситов. У ее стиля, пожалуй, есть особенность: сочетание пышной южной риторики и изобильной изобразительности с холодноватой интонацией:
Привоз, словно чернильное пятно на промокательной бумаге, растекся и расплылся по ближним улицам, и заборы, его ограничивающие, не означают никаких границ. Признаки близкого базара появляются далеко от него и будоражат городского человека, как будоражат рыболова запахи близкой воды, как охотника свежий след. Разве охота — только выстрел и добыча за плечами? Разве базар — только место, где меняют деньги на продукты? Разве не базар — переполненные трамваи, бегущие к нему со всех сторон? Разве не базар — за много кварталов от него непреклонно вылезающая из авосек молодая морковка? Разве не базар — трамвайные билеты, конфетные бумажки, золотая чешуя копченой скумбрии, шелуха репчатого лука, напоминающая крылья стрекоз, лузга подсолнечных и тыквенных семечек, обжимные пробки от пивных бутылок и лимонада — широко рассыпанное конфетти вокруг всегда воскресного Привоза.
Сама коллизия, лежащая в основе романа, не слишком оригинальна: во время Гражданской войны у Гриши, ненадолго вернувшегося в Одессу, был роман с Маней-Марусей, с Марией Исааковной. Судя по всему, для обоих это оказалось главной любовью всей жизни. Но Маруся отказалась поехать с Гришей — а он отказался остаться с ней. И на его долгую жизнь — успешную, полезную, интересную американскую жизнь — лег отсвет предательства:
— Что ты спрашиваешь, Манечка?! Как можно было не уехать, если были банды, тиф и холера?! <…> — Значит, для тебя, Гриша, холера, для тебя банды, а для нас — для меня, для Сули, для твоих родных братьев, для родителей, для всех наших — варьете «Бомонд»?
Извечная эмигрантская ситуация…
Существенно, однако, не то, что случалось с Гришей там — существенно случившееся с оставшимися здесь.
Почему-то главным героем романа оказывается не Гриша, даже не Мария Исааковна, а ее брат Саул. Бо́льшая часть происходящего описывается именно через его восприятие. При этом в судьбе Саула Исааковича есть одна драматическая особенность, которая не имеет прямого отношения к основной сюжетной линии, но постоянно прозрачными полунамеками всплывает в тексте. Кажется, в конце Гражданской из-за ранения Саул сделался скопцом. У него уже были дети, жена осталась с ним (хотя изменила ему с его лучшим другом, будущим мужем Маруси). Но увечье не могло не наложить некую печать на всю последующую жизнь героя — и как-то эта предполагаемая печать связана с самыми существенными сторонами его личности.
Саул, как и старшие братья Гриши, встретил революцию уже взрослым человеком, но все они стали — и это исторически достоверно — стопроцентно советскими людьми по психологии, языку, способу видеть и описывать мир. «…И он понятия не имеет, зачем без специальной командировки советским гражданам шататься по загранице» (это Гриша пригласил его съездить в Италию и Швейцарию). Можно увидеть здесь издевательскую самоцензуру Калиновской, а можно — демонстрацию структур сознания своего героя: не «не пустят», а «понятия не имеет зачем». Или вот еще: встречает Саул Исаакович солдата-казаха, хочет сказать ему что-то приятное, что-то пытается вспомнить про Казахстан, и только уже расставшись вспоминает: да, про героев-панфиловцев…
Саул все время, на протяжении всей книги, ходит по городу, по какой-то непривычной, как будто подернутой матовой дымкой Одессе… и что-то ищет, что-то пытается вспомнить — пытается и не может. Припоминает вместо этого какие-то реалии официального советского мира, тех же панфиловцев, которые, конечно, не выдумка — но какое они имеют отношение к Саулу Исааковичу и его жизни? Как будто давняя утрата мужской силы параллельна другой утрате. Гриша дарит ему талес. Выясняется, что Саул никогда в жизни не был в синагоге (тоже характерно это «никогда в жизни» — ведь в детстве же не мог не бывать). Но вот он — как бы случайно — заходит туда. И наконец действительно «вспоминает»: что-то туманно-библейское — пожалуй, это единственное место в романе, где Калиновской изменяет вкус. Все-таки пустота, провал на месте потенциального воспоминания лучше чего бы то ни было конкретного. Что же случилось со всеми ними, оставшимися здесь, в убожестве советской жизни? Они забыли. Забыли и пытаются вспомнить. Однако уже некогда: роман заканчивается двумя смертями — сначала Клары, жены старшего Гришиного брата, потом — самой Маруси, Марии Исааковны. Впрочем, и Гриша под конец куда-то пропадает: «Не едет и не пишет! — Здоров ли?» Старые люди…
И сомнительная на самом-то деле утонченность «местечковой знати», и американистая жовиальность, и советская ущербность — все в конечном итоге съедается безразличием смерти.
4
Лучшее из написанного Калиновской помимо романа — два «деревенских», «вологодских» рассказа — «Парамон и Аполлинария» и «Колодец без воды». Вероятно, эта способность стороннего человека (одесской еврейки!) прочувствовать поэзию и пластику совершенно чужого ей по рождению мира и воплотить его в слове на уровне, в принципе недоступном советским писателям-деревенщикам (даже лучшим из них и даже в лучшие их годы), была бы воспринята советской литературой как оскорбление… если бы кто-то вообще эти публикации заметил. Оказывается, есть что-то гораздо более важное, чем «знание материала» или «малая родина». Но — повторим — рассказ «Парамон и Аполлинария» в «Новом мире» прошел тихо. Потому что не было в нем никакой «правды жизни» и ничего «почти запретного», никакого «дефицита». Как и в Одессе, в вологодской деревне Калиновскую интересовали в первую очередь старики и старухи. Можно даже увидеть в героях рассказа — воссоединяющихся на склоне лет бывших супругах — какую-то параллель с Гришей и Марусей.
Еще есть два рассказа о собственной одесской юности — «Сны и песни» и «Кредитор», где присутствуют — на обочине текста — и еврейская тема, конечно, и многозначительные детали эпохи (в начале 1970-х знакомый распродает на Привозе теплые вещи: уезжаю в жаркие страны, продаю по дешевке). Есть несколько красивых, «не хуже, чем у людей», рассказов о любви. Есть тот сценарий (или монопьеса), который тщетно помогал пристроить Высоцкий. Экзистенциалистская трактовка военной темы: обреченный последний солдат, юный новобранец, отбившийся от части, отстреливается из подвала дома — в городе, который захватили враги (тот же примерно сюжет, но с бо́льшим читательским успехом использовал в те же годы Борис Васильев в повести «В списках не значился»). Судя по статье Людмилы Абрамовой, в первой редакции пьесы герой был евреем. Однако в напечатанном тексте ссылки на его национальность сняты. Вот, собственно, и всё. Две тонкие книжечки — всё, что оставила нам Дина Калиновская, скончавшаяся пять лет назад у себя на родине, в Одессе. В принципе, не так уж и мало — сколько оставили Леонид Добычин или Венедикт Ерофеев? А это гении, классики… Калиновская, конечно, прозаик второго ряда, недоосуществившийся в каком-то смысле, недопроявленный. Хотя — очень талантливый. А еще — для историка литературы это ценно, но, думаю, важно и просто для читателя — писатель, чье наследие ставит новые вопросы и не предлагает простых ответов на них. [1] Калиновская Д. Парамон и Аполлинария: Избранное. М.: Текст, 2012. 224 с. [2] Калиновская Д. О суббота!: Роман. М.: Текст, 2007. 190 с. (Проза евр. жизни). |
  |