|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 126 / Февраль 2017 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Борис Белкин. Рассказы. Дружба народов, 2016, № 11
Два незамысловатых мемуарных рассказа из советской школьной жизни, густо пропитанной мелким идеологическим абсурдом и менее густо — отроческими эротическими переживаниями: какие-то кружки «лекторов-беседчиков», которые «записывали на занятиях под диктовку жития пионеров-героев, учили наизусть, а затем по вызову разъезжали по московским школам с "лекциями-беседами"», Клуб интернациональной дружбы, открывающий карьерные выси, наконец — школьный вечер, где пионеры в национальных костюмах олицетворяют соответствующие союзные республики. При этом республики Средней Азии олицетворяют брюнетистые еврейские мальчики, так как таджиков, узбеков и туркменов в московской школе начала 1980-х не нашлось… Роль «восточного человека» не оставляет автора и в постсоветской жизни:
…меня то и дело продолжают принимать за узбека или таджика. Не спасает ни галстук, ни очки, ни кожаный портфель. Причем обескураживающее единодушие в этом проявляют не только москвичи, но и сами гастарбайтеры. Я уже не раз думал, что при неудачной встрече с патриотически настроенными головорезами, шансов у меня немного. Вряд ли я успею объяснить им, что я не таджик, а еврей. К тому же я совершенно не уверен, что это сильно поправит ситуацию. Вот ведь дикость какая.
Александр Мелихов. Азбучные обиды. Звезда, 2016, № 10
Рецензия на мемуарную книгу польского поэта, нобелевского лауреата Чеслава Милоша «Азбука» (СПб., 2014). Книга, в отличие от стихов Милоша, рецензенту нравится. Одна из приведенных им для иллюстрации цитат касается «вечного студента» Сорбонны Абраши, который «служил в польской армии в Англии, и, по его словам, там ему не давали проходу антисемиты». Потом Абраша воевал в Палестине с англичанами.
Заканчивается рецензия собственными рассуждениями Мелихова о судьбах восточноевропейских стран — с таким финалом:
И поймет ли когда-нибудь мир, что ему уже необходимы международные союзы, заключаемые не по экономическим или военным, но по экзистенциальным, эстетическим мотивам? Ведь никто и поныне не понимает, что Советский Союз был убит эстетическим авитаминозом, отсутствием объединяющей грезы.
Мелихов-публицист в стотысячный раз возвращается к своей любимой мысли — на сей раз, признаться, не совсем кстати.
Сергей Белов. Достоевский и евреи. Звезда, 2016, № 12
Вместо попытки проанализировать сложную и драматическую тему, которой уже посвящено множество исследований, автор статьи ставит перед собой задачу примитивную — оградить русского классика от обвинений в антисемитизме.
И как, как он это делает!
Приведя цитату из письма к Ю.Ф.Абазе, где Достоевский прямо говорит: евреи «вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно теперь остаются носителями антихриста», Белов снабжает ее вот таким комментарием:
…письмо к Ю.Ф.Абазе свидетельствует не столько об антисемитизме Достоевского, сколько о неприятии писателем-христианином торговли, барышей, прибыли, банков, а в этих сферах было много евреев, и свидетельствует о понимании Достоевским несовместимости учения Библии и Христа с банками и прибылью.
Как говорится — умри, Денис, лучше не скажешь. Но нет, можно сказать и получше — см. буквально следующие фразы:
Лиза Хохлакова говорит Алеше Карамазову, что евреи убивают детей. «Не знаю», — отвечает Алеша. Но ведь Алеша еще послушник, он только начинает свой путь к святости Зосимы.
Напиши подобное в школьном сочинении какой-нибудь девятиклассник — можно было бы обсудить с ним значение и идейную нагрузку образа Алеши, а также то, как парадоксально — возможно, помимо собственной воли! — раскрывает Достоевский подсознательный механизм возникновения кровавого навета (реализация собственных подавленных садистских влечений и фантазий) в дальнейших репликах Лизы. Однако перед нами не девятиклассник, а восьмидесятилетний профессор, написавший о Достоевском не одну монографию.
Далее Белов защищает Достоевского традиционным анекдотическим способом — по формуле «у него много друзей-евреев». Близкие друзья, правда, не обнаруживаются, находятся лишь знакомые. Например:
Исай Фомич Бумштель (1808 — ?) — арестант Омского острога, как свидетельствует архивное дело, «из Смоленской губернии, из евреев, мещанин, в крепости с 24 августа 1850 года за смертоубийство, на 11 лет, наказан плетью 65 ударами с постановлением штемпелевских знаков, золотых дел мастер, грамоты не знает». <…> С иронией и с юмором, но все же тепло пишет Достоевский о Бумштеле в «Записках из Мертвого дома» (он фигурирует там под фамилией Бумштейн).
Уж так тепло — теплее некуда (напомним: Исай Фомич в «Записках из Мертвого дома» — омерзительный ростовщик). Дальше идут барабанщик Кац (с ним Достоевский во время солдатчины оказался соседом на нарах), семейство Каган (соседи по даче) и т. д.
Но это все цветочки. Ягодки дальше:
Знаток и исследователь еврейского быта, автор книги «Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта. Собрал и перевел Яков Брафман» (Вильно, 1869; изд. 2-е: Вильно, 1870). Оба издания были в библиотеке Достоевского, а 3-е издание этой книги Брафман подарил Достоевскому с надписью: «Федору Михайловичу Достоевскому в знак глубокого уважения от автора 1877 апреля 6».
Яков Александрович Брафман (? — 16(28).XII.1879), ветхозаветный еврей, дарит якобы антисемиту Достоевскому собственную книгу «в знак глубокого уважения»!
Если профессор Белов по каким-то причинам не слышал о таком заметном авторе, как Брафман, и не знает, что тот был вовсе не «ветхозаветным евреем», а выкрестом-антисемитом (или, точнее, сторонником немедленного и радикального освобождения евреев от груза еврейства), и не «знатоком и исследователем еврейского быта», а пламенным ненавистником еврейских общинных институтов, автором книги, ставшей настольной для многих поколений российских юдофобов, вплоть до Кожинова и Шафаревича, — так можно же справиться по общедоступным источникам, хоть по той же «Еврейской энциклопедии», на которую Белов в начале своей статьи ссылается! Кстати, дата рождения Брафмана известна, но это уже мелочи...
Между тем с антисемитизмом Достоевского в самом деле не все так просто, в его отношении к евреям присутствовал, наряду с отталкиванием, и элемент притяжения. Этим противоречиям посвящена статья Аарона Штейнберга, на которую Белов ссылается, но которую, судя по всему, не может или не хочет понять. Штейнберг писал о том, что «"антисемитизм" Достоевского раскрывается перед нами как другая, как оборотная сторона и истинное основание собственного его "иудаизма"». Белов снабжает эту цитату следующим примечанием:
К этим абсолютно точным словам А.З.Штейнберга можно добавить лишь тот факт, что христианин не может быть антисемитом, так как сам Христос был еврей, а если речь идет о таком гениальном христианине, каким был Достоевский, то надо всегда помнить: гений и злодейство — две вещи несовместные.
И опять же разводишь руками: как такое комментировать, как с этим полемизировать? И взрослый ли человек это писал?
Статья Белова оформлена как научная, снабжена ссылками, аппаратом — все как полагается. Для литературно-художественного издания это даже смотрится излишеством. Но читала ли этот исключительный по наивности, тенденциозности и верхоглядству текст (мы сильно смягчаем выражения) редакция «Звезды» — журнала, в котором как раз публицистика является традиционно сильной? И если читала — как могла опубликовать?
Давид Маркиш. Из писем пожилого господина. Знамя, 2016, № 10
Забавные мемуарные рассказы, посвященные «сидению в отказе».
Первый — про то, как Виктор Луи, более чем колоритный журналист-авантюрист, связанный с КГБ, в 1970-е помог Маркишу и его семье получить выездную визу.
Второй — как писатель вместе со своим другом, художником Вадимом Дубновым, ездил получать у отца Дубнова согласие на выезд сына (отца — чисто биологического, не участвовавшего в воспитании). Ехать пришлось в город с диким названием Электросталь. Для многих ценителей русской поэзии этот город ассоциируется с жившим там «лианозовцем» Яном Сатуновским, но у Маркиша, кажется, подобных ассоциаций не возникает.
Лучше всего в рассказе финал:
Не стану утверждать, что Владислав Шмульевич Дубнов предполагал когда-либо, что прихотливый извив судьбы занесет его в еврейский край, в Национальный дом. Однако во второй половине 80-х поток эмиграции захватил и его, и он, одинокий больной старик, благополучно прибыл на историческую родину и был отправлен доживать век на север Израиля, в средиземноморский курортный городок Нагария, в государственную богадельню. Все его попытки разыскать сына — а он пытался, писал письма в разные инстанции — не приносили внятного результата. Бесплодные эти поиски, увлекательная переписка занимали неограниченное ничем, кроме близкой уже смерти, время Шмульевича из Электростали и наполняли смыслом его древесное существование в богадельне: он был «при деле».
А Вадим, творческий человек с чуткой душой, года через три после приезда в Израиль совершенно разочаровался в еврейском общежитии — такое случается в нашей среде — и уехал в Австралию. Поводом к разрыву послужил дурацкий случай: в обязательной для всех призывников Школе молодого бойца, куда Вадим попал прямо из мобилизационного пункта, он затеял скандал на учениях по ползанью по-пластунски. С пеною у рта он доказывал, что пластунское ползанье в Советской армии значительно лучше, чем такое же ползанье в израильских войсках. Это непатриотичное выступленье встретило среди молодых бойцов неоднозначный прием: местные уроженцы стояли на том, что израильская практика ползанья по-пластунски лучше, чем русская; это однозначно. Жаркий спор разгорался, позвали сначала сержанта, а потом и дежурного офицера для прояснения ситуации. Но ситуация не прояснялась, каждый из спорщиков придерживался своей точки зрения в этом важном вопросе, в котором Вадим был не одинок: к нему присоединились — скорей всего, из чувства солидарности — недавние выходцы из СССР. Конфликт был столь дик и дремуч, что выкатился на страницы русскоязычной, а затем и ивритской прессы. И возмутитель спокойствия Вадим Дубнов, герой заметок и статей, предстал перед израильским читателем газет не в лучшем свете: дурак дураком… Незаслуженная обида поселилась в душе Вадима и нашла там благодатную почву: несправедливое отношение израильтян к красноармейскому пластунскому опыту Вадим переносил на другие аспекты нашей жизни, и обида его росла на глазах. Недолгое время спустя он сел в самолет и улетел в Австралию, и след его простыл.
А Вячеславу Шмульевичу Дубнову так и не выпало во второй раз встретиться с сыном в этой жизни.
Курьезная деталь: к концу рассказа герой, первоначально именовавшийся Владиславом, неожиданно превращется в Вячеслава…
Людмила Горелик. Много черных и красных ленточек. Знамя, 2016, № 11
Детские воспоминания о смерти Сталина — с колоритными подробностями:
…в школе не хватило черных и красных ленточек на портреты. В этот день во всех учреждениях украшали многочисленные портреты Сталина черными и красными траурными ленточками — так всегда оформляли портреты умерших вождей: черными — в знак скорби, и красными — в память революционной деятельности вождя... Портреты Сталина, увитые черно-красными ленточками, уже появились на центральных улицах города. А в школе ленточек не хватило! Всем ученицам в женской школе, где училась сестра, велели принести в школу собственные ленточки из кос. <…>Мама кинулась стирать и гладить черные и красные ленточки сестры. Мне, к счастью, тоже незадолго перед тем начали отпускать волосы к школе, волосы оказались хорошие, росли быстро, и в пять лет у меня уже были коротенькие, но толстые косички. Черных ленточек я не носила, однако красные у меня были! Как я этому обрадовалась! Мама постирала и погладила мои ленточки тоже. И мы отдали для вождя много, много черных и красных ленточек!
Фоном этим публичным переживаниям служат иные, тайные, невербализируемые: папа-еврей (семья смешанная) в последние месяцы ходит мрачный и встревоженный, сосредоточенно читает газеты, пытаясь что-то вычитать между строк. О причинах его тогдашних переживаний и вообще обо всем, что происходило в последние месяцы жизни Сталина, дочь узнала, конечно, лишь много лет спустя.
Виктор Шендерович. Савельев. Повесть. Знамя, 2016, № 12
Виктор Шендерович известен как политический юморист, фельетонист и вообще — заметная фигура в мире российской либеральной оппозиции. Ему под шестьдесят, литературный стаж — более тридцати лет. Последнее, чего от него можно было бы ожидать, — превращение в «серьезного» прозаика. Но есть чудеса в этом мире. Повесть Шендеровича неплоха, или уж во всяком случае — примечательна.
Интересна она прежде всего тем, как на ходу меняется ее жанровая природа: вот перед нами описание позднесоветской интеллигентской жизни в духе Юрия Трифонова (история поэта, жертвующего призванием ради карьеры) — и вдруг на ходу мерзкий, но c виду приличный мир восьмидесятых годов превращается в бандитский карнавал девяностых, поэт — в спичрайтера при коррумпированном политике, постчеховская проза — чуть ли не в триллер. Затем начинается то ли фантасмогория (но это было бы слишком грубо!), то ли иллюзия фантасмогории. Личность героя, Юрия Савельева, раздваивается: циничный московский телеведущий и — избитый, изуродованный при героических обстоятельствах человек, потерявший память, увезенный в Израиль и там ставший поэтом — на иврите. Это уже не то Гоголь, не то Эдгар По. Некоторый пережим с дидактикой, но не будем строги к начинающему автору.
Завершается повесть стихами героя. Какого из них? А обоих… И что же — стихи тоже неплохи:
Когда время песка, скрипя, поворачивается вспять и нашаривает рука обезумевшие часы, не спеши перейти рубеж темноты. Возвращайся в сон. И не спрашивай у песка, почему он шуршит — в тебе.
Юлия Беломлинская. Лотерейный билет. Рассказ. Знамя, 2016, № 12
Рассказ про неудачный (завязавшийся по интернету и кончившийся ничем) роман немолодой ленинградки с тоже не слишком молодым горским евреем по имени Авшалом, переехавшим в Москву из Баку после погромов 1990 года.
Мы, ашкенази, отличаемся от них примерно как белые и черные американцы друг от друга. Таты, горцы, крымчаки, бухарцы — это все наши черные. Наши негры. Они вообще-то в сто раз больше евреи, чем мы. Они даже и в нашем поколении знают иврит, знают Тору, учат детей Пятикнижию. Чего-то там соблюдают… Ну, по логике, они точно больше евреи, чем мы. Мы-то ассимилянты. Но мы все равно считаем, что настоящие евреи — это мы. Хоть и ассимилянты. Но именно нас — Гитлер. Именно нас. А их — в общем, нет. Или просто не успел…
Собственно говоря, рассказ не про еврейство, а про возраст, тоску, нелюбовь к себе… Такая чеховщина, загримированная под Чарльза Буковски или Генри Миллера. Когда речь идет о немолодых людях, все это читается по-другому. Приобретает, если угодно, дополнительное измерение. Беломлинская уже не один год пишет такого рода рассказы, как бы исповедальные, иногда шокирующе откровенные.
Ну и в итоге:
…то, что мы оба — евреи, возможно, показалось ему какой-то ниточкой, связующей… Но это — фальшивая ниточка. Я давно это знаю. Фальшивая, потому что мы оба — русские. Мы — имперские русские. Он из одной части Империи, я из другой. Он — из имперской колонии. Я — из имперской столицы. Еврейство — это так, одна из меток… одна из красок огромной разноцветной Империи. И кажется, что роднит, — но нет, ни хрена не роднит…
Павел Нерлер. Осип Мандельштам: рождение и семья. Знамя, 2016, № 12
Глава из новой биографии Мандельштама. Очень внятный и подробный рассказ о семейных корнях поэта, много интересных подробностей — про обучение Эмиля (Хацкеля) Мандельштама в Берлине, про его несостоявшуюся раввинскую карьеру, его кожевенный бизнес, про судьбы двух его незнаменитых младших сыновей. Досадно, что в одном месте возникает странная невнятица:
Но — плохо говорить по-русски и говорить по-русски с еврейским акцентом — не одно и то же. Сколько раз и мне приходилось слышать великолепную русскую речь, но… с сильнейшим жаргоном! Такой акцент, безусловно, одна из разновидностей той знаменитой мандельштамовской «крошки мускуса»: заговорившему на жаргоне с детства избавиться от него уже не получится.
Поэтому отнесемся с доверием к свидетельству такого ненадежного свидетеля, как Георгий Иванов. Один из очень немногих мандельштамовских знакомцев, кто бывал у него дома, он утверждал: никаких следов акцента русский язык Мандельштама-старшего не содержал. Косвенно об этом говорит и фраза матери поэта в одном из писем: «…еврейская дама из Москвы. Как тень за мной — все на жаргоне, сил моих нет!» — по-видимому, дома у Флоры Осиповны такого источника страданий не было. Да о том же свидетельствовал и сам поэт. «В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах».
Что имели в виду под «жаргоном» мать Мандельштама и сам Мандельштам — понятно: идиш. А что имеет в виду Нерлер?
Леонид Гиршович. Малеровская годовщина. Субъективные заметки. Иностранная литература, 2016, № 10
К романам Леонида Гиршовича можно относиться по-разному. Как эссеист же он всегда хорош, особенно если речь идет о музыке — его первой профессии. Небольшой текст о Малере — о его славе дирижера и прижизненной недооценке в качестве композитора, о соперничестве с Рихардом Штраусом, о комплексах «европеизированного неарийца» и, в не меньшей степени, об истории его восприятия в Европе и в СССР — кажется исключительно тонким и емким. Этот текст может оценить и человек, никогда не погружавшийся в предмет:
Нацистская идеология расправлялась с Малером по привычной схеме. Еврейский китч, «еврейская на-все-похожесть», еврейская слезливость. Постоянно имея дело с чужими партитурами, в собственных сделался эклектиком. Типично еврейское паразитирование на чужом творчестве, на чужом национальном гении.
Популизм от эстетики, как и всякий популизм: «вроде бы тут что-то есть», вроде бы человек режет правду-матку, бесчисленные геббельсы всех цветов и всех калибров вроде бы бьют не в бровь, а в глаз, но — «вроде бы». Черная дыра этих «вроде бы» — характерная черта популистской полуправды.
Да, у Малера можно найти все, от музыки высыхающих слез, какой-нибудь неаполитанской песни, до Брукнера, «Шуберта, закованного в броню» — в крупповскую броню, добавлю я от себя. Но в пресловутой еврейской «всеотзывчивости», которой всегда корили и попрекали Малера, его грандиозность. Если угодно, его имперскость.
Борис Фрезинский. Илья Эренбург и «Иностранная литература». Иностранная литература, 2016, № 10
История сотрудничества писателя в журнале «Иностранная литература» 1950–1960-х годов. Есть любопытные, из другого времени выглядящие сюрреалистическими сюжеты: Эренбург эзоповым языком высказывает свои суждения о современной литературе в статье о Стендале, но бдительные читатели из ЦК КПСС обнаруживают крамолу и по их поручению испытанные «бойцы идеологического фронта» Е.Книпович и Я.Эльсберг дают писателю жесткий отпор. Впрочем, без оргвыводов.
Михаил Левитин. Создание фона. Повесть. Октябрь, 2016, № 12
Странно-хорошая, сновидческая проза про детские воспоминания — о людях, образах, обрывочных сюжетах:
Большая часть детства приходится на Чернигов, ритмическая ее часть, Одесса, — лирика новорожденного в крови и нечистотах.
Утро — бездонная кошелка, женщины на трамвайных остановках, пристраивающие купленное между ног и теперь, когда главное сделано, жаждущие поболтать. И вот в ожидании трамвая и в самом трамвае незнакомые, взмокшие, равнодушные друг к другу начинали болтать о незначащем, о второстепенном, о том, что их совершенно не интересовало, чувствуя, что кошелка крепко прихвачена двумя ногами и свежая рыба внутри нет-нет да щекотно ударит по икрам.
Еврейство присутствует здесь как одна из составляющих, не скрываемая и не акцентируемая. Бабушка Эсфирь Александровна, прадед‑раввин, дядя Даниил, который прятался в подвале при немцах…
Денис Иоффе. К вопросу о радикальной эстетике Второго русского авангарда. Поэтика Михаила Гробмана: живопись, жизнетворчество и кинический террор. Новое литературное обозрение, 2016, № 4(140)
Статья о творчестве одного из «принципиально значимых персонажей Второго русского авангарда» — Михаила Гробмана, который «эмигрировал в Израиль в 1971 году и довольно быстро вошел в круг наиболее заметных деятелей местного радикального искусства, вступив в жесткое противостояние с традиционно настроенным арт-истеблишментом своей новой страны обитания».
Статья содержит немало примеров брутально-ёрнической эстетики Гробмана, поэта и художника, — от характерного протоконцептуализма («Мавзолей Ленина в Тель-Авиве») до мизантропического лиризма. Прижизненная смена контекста делает ее особенно интересной: «Народнический "демократизм" лианозовской школы развивается у него в национально окрашенный правый дискурс "брутальной революции" сионистских бури и натиска». Автор статьи называет Гробмана «еврейским киником-буквалистом», упоминает древнегреческий кинический идеал «человека-собаки» и в этой связи вспоминает:
…в доме Михаила Гробмана долгие годы существовал гигантских размеров волкодав-кавказец по имени Тимур, размером со среднего теленка. Грозным рыком Тимур скрашивал будни художника и поэта, пока не почил неизбежной в данном случае собачьей смертью.
Нельзя, однако, не заметить: попытка описывать витальную анархическую поэтику на квазиакадемическом языке временами приводит к очень распространенному (в том числе и на страницах в высшей степени почтенного журнала «НЛО») комическому эффекту:
…половой член, напоминающий гаубицу, эрегированный в своей бессовестной брутальной простоте, представляет собой мощное оружие травестийного карнавального террора, площадного телесного низа, подробно описанного М.М.Бахтиным.
Мысль совершенно справедливая — а все равно немного смешно. В этом, видимо, карнавальный эффект и заключается…
Подготовил Валерий Шубинский
|
     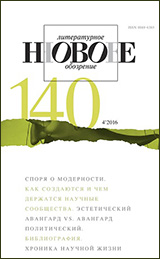 |


