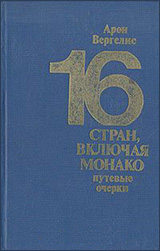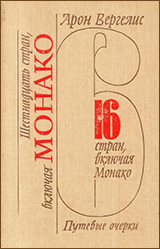|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 133 / Апрель 2018 Имена
К 100-летию со дня рождения Арона Вергелиса |
|
||||||||
|
В 1961 году фасад дома № 17 на московской улице Кирова (нынешней Мясницкой) украсила вывеска с текстом на двух языках — русском и еврейском. Вывеска стала единственным «розеттским камнем» такого рода на всей советской территории за пределами Еврейской автономной области (ЕАО) и наглядно отражала решение, принятое в муках где-то в районе Кремля, а именно: выйти за пределы «биробиджанской модели» еврейской жизни. Всю вторую половину 1950-х годов советское руководство осаждали зарубежные ходоки, особенно коммунистические, с просьбой или даже требованием восстановить еврейские культурные институты, полностью уничтоженные, зачастую вместе с людьми, в годы «культа личности». На это им упорно отвечали: у нас есть Биробиджан, там газета выходит — и этого вполне хватает, так как евреям их язык уже не нужен. Но ходоки не унимались, да и внутри страны, особенно в Союзе писателей, раздавались голоса в пользу воссоздания периодики, книгоиздательства, театра на идише. Вода камень точит — в нашем случае она выточила тот самый «розеттский камень» с надписью: «Редакция журнала СОВЕТИШ ГЕЙМЛАНД (Советская родина)». Название нового издания звучало патриотично и в то же время намекало на определенную преемственность традиций: два литературных альманаха, выходивших когда-то в Москве, именовались «Советиш» (1934–1941) и «Геймланд» (1947–1948).
При этом Биробиджан все равно не исчезал с повестки дня почти до самого конца советской власти. Правда, пропагандистский посыл менялся. При Хрущеве неудача биробиджанского проекта выступала определенным индикатором нежелания евреев замкнуться в своем языке и своей национальной культуре, а позже, при Брежневе, ЕАО служила (для тех обожателей советского коммунизма, кто был готов этому верить) образцом успешного решения «еврейского вопроса» в социалистическом обществе. И совсем не случайно именно биробиджанец Адольф Шаевич станет в эпоху застоя главным раввином Москвы, а Камерный еврейский музыкальный театр под руководством москвича Юрия Шерлинга, разрешенный в пику поправке Джексона-Вэника, формально припишут к столице дальневосточного еврейства.
Не случайной была и кандидатура, выдвинутая и утвержденная на должность главного редактора «Советиш геймланд». Арон Алтерович Вергелис (1918–1999) родился на Украине, в местечке Любар Волынской губернии, но в 1932 году семья Вергелисов переехала в Биро-Биджанский национальный район Дальневосточного края, вскоре преобразованный в ЕАО, где и проявился поэтический талант будущего редактора. Иногда его будут называть «первым поэтом Биробиджана» — действительности это не соответствовало. На самом деле первые в еврейской автономии стихи на идише вышли из-под пера Эммануила Казакевича, который после войны успешно перешел в русский литературный цех — за что некоторые еврейские литераторы на него обиделись: предатель, мол. Как биробиджанцев в 1940 году в Союз писателей одновременно приняли троих — Вергелиса, Казакевича и Бузи Миллера. Тем не менее из них в Биробиджане к тому моменту оставался уже один только Миллер. Он там — с перерывом на ГУЛАГ — и будет жить до конца своих дней.
Вергелис же в том предвоенном году получил, кроме корочки СП, еще и диплом Московского пединститута, а также выпустил первый поэтический сборник. Поступал он на еврейское отделение МГПИ, но оканчивал уже «чисто русский» вуз. В 1938 году еврейское отделение исчезло — как исчезли и почти все еврейские учебные заведения за пределами ЕАО. Судя по всему, Вергелис являлся тогда, в 1940-м, самым молодым членом писательского союза. Это, однако, не освободило начинающего поэта от призыва, так что войну он встретил в армии. Одно время его считали погибшим, о чем даже сообщила газета «Эйникайт», орган Еврейского антифашистского комитета, но информация оказалась ложной. После демобилизации он вернулся в Москву, где возглавил редакцию советского радиовещания на идише, стал секретарем еврейской секции СП и вошел в редколлегию альманаха «Геймланд».
В 1948-м все места его работы попали под каток репрессий, обрушившихся в позднесталинский период на еврейскую культуру. Вергелис оказался в числе тех, кто уцелел. Недоброжелатели потом сделают из этого заключение, что он сотрудничал с «органами». Доступные архивные материалы на сей счет молчат, не говоря уже о том, что в числе репрессированных встречались и активно сотрудничавшие (известна, например, трагическая судьба поэта Ицика Фефера). Логика чекистских решений нередко малопонятна простым смертным. Ясно одно: это были тяжелые годы и для тех, кто оставался на свободе. Смерть Сталина в марте 1953-го устранила опасность ареста, но сохранялась проблема найти себе место на резко изменившемся профессиональном ландшафте.
Прорыв наступил, судя по всему, в 1955-м, когда Вергелис начал работать в аппарате Союза писателей под руководством Бориса Полевого, возглавлявшего так называемую Иностранную комиссию этого литературного министерства. Теперь имя Вергелиса все чаще появлялось в зарубежной прессе (в советских газетах хроника еврейской жизни попросту отсутствовала). Он участвовал в беседах с еврейскими и нееврейскими деятелями, посещавшими Москву. Его стихи стали печатать в литературных журналах, в издательстве «Советский писатель» вышел его сборник «Жажда» — и то, и другое в русских переводах. В оригинале публиковаться еврейским писателям по-прежнему негде, еврейский язык советским евреям все еще «не нужен». Но в марте 1959-го он им, как неожиданно выяснилось, все-таки понадобился и свет наконец увидела первая в СССР (после более чем десятилетнего перерыва) книга на идише — томик избранных рассказов Шолом-Алейхема, приуроченный к столетнему юбилею классика. Вода времени всё точила камень…
Именно Вергелису кто-то в нужный момент подсказал решающий ход — написать Хрущеву и в письме обосновать необходимость учреждения при Союзе писателей еврейского журнала. И именно Вергелиса 11 февраля 1961 года секретариат СП утвердил главным редактором «Советиш геймланд». Многие литераторы старшего поколения встретили это назначение в штыки. Для них он был выскочкой, к тому же выскочкой с тяжелым характером. Кто-то считал его нерукопожатным. Кто-то глухо ворчал, но соглашался писать для вергелисовского детища — единственного в СССР еврейского периодического издания, если не считать территориально удаленную от культурных центров и глубоко провинциальную по содержанию газету «Биробиджанер штерн». Так или иначе, это назначение определило всю дальнейшую жизнь Вергелиса.
Должность редактора советского еврейского журнала с неизбежностью превратилась в дзот на оборонительно-наступательной линии холодной войны с Западом. Уже первая поездка Вергелиса в США в ноябре 1963-го явилась событием, широко обсуждавшимся в американской печати и даже в Конгрессе. Любой боец холодной войны должен был (и, кстати, все еще должен) уметь лгать, непрерывно и почти по любому поводу. При этом требовалось умение искренне злиться, если идеологический противник или просто нормальный человек вранью не верил. Иными словами, требовалось органично исполнять роль «носителя абсолютной правды». У Вергелиса эта роль получалась, он мог считать себя победителем. Правда, победа оказалась пирровой — он потерял поддержку даже тех западных деятелей, кто поначалу хотел с ним дружить.
Трудно сказать, были ли у него когда-нибудь друзья среди еврейских писателей. Но к марту 1988-го, когда я пришел работать в журнал, их уже точно не оставалось. Вспоминаю его 70-летний юбилей, отмечавшийся в отдельном зале ресторана «Прага». За столом сидели коллеги по редакции, члены семьи и два заведующих секторами ЦК КПСС. Не могу вспомнить никого, кто бы относился к категории «друзей». На протяжении трех с небольшим лет я — в качестве ответственного секретаря «Советиш геймланд» — общался с ним почти ежедневно и вынес из этого общения впечатление, что остальных еврейских писателей он или недолюбливал, или просто терпеть не мог. Ему чужд был жанр задушевных бесед, и чувство юмора у него фактически отсутствовало. Казалось, в этом человеке скопилось слишком много желчи — и собственной, и той, которую на него вылили (порой незаслуженно) в прошлые десятилетия жизни.
Среда его обитания могла быть злой, просто токсичной. О нем говорили: «Он любит детей и собак, но не любит людей». Когда он сломал шейку бедра, но сравнительно быстро поправился и встал на ноги, один из авторов журнала (помню кто, но не скажу) изрек: «Дер шварц-йор немт им нит», что примерно переводится так: «Холера его не берет». Меня это тогда резануло. И не только это. Много обид, часто смертельных, накопилось в той многострадальной литературной среде. Не потому ли ему было легче иметь дело с людьми из других цехов — актерами, музыкантами, художниками? Проще и добрей у него складывались отношения и с молодыми. Стихи Вергелис писал разные, в том числе отличные. Являлся мастером поэтического перевода. Обожал работу редактора, жил этим. Его публицистика и проза — литературный шлак эпохи. Многие читали его путевые заметки, виртуально перемещались вместе с ним по «Шестнадцати странам, включая Монако» и открывали для себя новые миры. Жанр кино- и литературных путешествий пользовался в отгороженной от мира стране популярностью. В 1991-м, когда я сообщил ему о своем предстоящем отъезде в Оксфорд, он мне сказал: «Их бин айх мекане» — «Я вам завидую». И отмахнулся от моего напоминания о его шестнадцати странах: «Это было совсем другое». Благодаря ему что-то стало возможным. Например, в 1962-м он помог созданию в Москве еврейского драматического ансамбля, предшественника театра «Шалом». С его помощью в 1984-м вышел большой русско-еврейский словарь. «Группу еврейского языка» при Литературном институте им. Горького — тоже он «пробил». Многие попытки закончились ничем, однако это уже не его вина. Хотим мы того или нет, но в «сухом остатке» Вергелис занимает заметное место в истории советского еврейства второй половины XX века. А «заметность» того времени и того места означала как хорошее, так и разное. |
          |