|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 134 / Июнь 2018 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Елена Твердислова. Слышать тишину. Дружба народов, 2018, № 3
Отклик на новый сборник повестей и рассказов Рады Полищук «И было так» (М.: Текст, 2017). Рецензент высоко оценивает художественное мастерство писателя:
Каждую трещинку, выбоинку, отколовшийся кусок она разглядывает, как коллекционер старинный фарфор, принципиально придерживаясь языка ласки и увещевания, но в той заостренной индивидуально выработанной манере, которая позволяет за банальностью человеческих взаимоотношений увидеть драму истории.
Приятно, что критик не пытается, как часто бывает, суетливо «оправдать» перед читателем еврейские мотивы книги (дескать, вы не думайте, это вообще про людей!) и, с другой стороны, не изрекает по этому поводу сентиментальных банальностей, что бывает еще чаще, а стремится серьезно и беспристрастно осмыслить подход автора к материалу:
Евреи не были одинаковыми, хоть и красят их порой одной краской, среди них были активные, деятельные, энергичные, и это тоже — память. Однако Раде Полищук дороги другие евреи: с непреходящим ощущением опасности и трагическим осознанием бесполезности противостоять тому, что на тебя надвигается.
Автор настоящего обзора — не поклонник прозы Полищук, но желание прочитать ее книгу после этой рецензии возникает.
Давид Маградзе. Лехаим. Стихи. Звезда, 2018, № 3
Стихотворение, переведенное на русский язык Николаем Голем, посвящено «многовековой дружбе еврейского и грузинского народов». Вот небольшой фрагмент:
Стук каблуков и резкое «Зиг хайль!». Вверх наискось рука рванулась рьяно… Из Ветхого Завета Михаэль Придет ли залечить былые раны?
Вопрос — и следом весь твой род хулят. Кого спасешь ты — Сару или Ханну? Как выберешь? Как стерпишь детский взгляд? И как же далеко до Ханаана!
С дружбой народов все в порядке, с поэзией похуже. Возможно, впрочем, что переводчик, опытный и профессиональный, но имевший дело с подстрочником, не смог уловить какие-то нюансы.
Ирина Чайковская. Феликс Розинер: грандиозность замыслов. Знамя, 2018, № 2
Довольно простодушная рецензия на изданный в Бостоне сборник материалов о жизни и творчестве писателя Феликса Розинера (1936–1997). Критик, как правило, не анализирует, а пересказывает книгу, иногда довольно сбивчиво. Ну вот, например:
В воспоминаниях Азария Мессерера речь идет о предках Феликсах Розинера. Сам Розинер всегда интересовался родословной семьи и, как кажется, близко к сердцу принял известный полулегендарный рассказ о своем предке, некоем Шауле Вале (1541–1617), еврее, на один-единственный день избранном польско-литовской знатью в короли. Впоследствии избранный уже по-настоящему Сигизмунд Третий даровал Шаулю звание «Слуги народа» и всевозможные привилегии. Больше чем уверена, что этот рассказ повлиял на особое пристрастие москвича Розинера к Литве.
Почему именно к Литве, а не к Польше? И в чем это пристрастие выразилось, кроме любви к Чюрлёнису и образа привлекательной женщины-литовки в одном из романов?
А еще есть у Розинера повесть «Лиловый дым», посвященная послевоенной Литве, с ее «лесными братьями», их жестокими разборками с односельчанами, принявшими советскую власть, и с еще не остывшей памятью о живших здесь евреях, убитых их соседями-литовцами. <…> Сегодня, когда правда об участии литовцев в убийствах евреев перестала замалчиваться, давняя повесть Розинера, где все названо своими именами, не может не удивить.
В связи с Холокостом и участием в нем литовцев Чайковская вспоминает две публикации (в примечаниях — ссылки на книги Евсея Цейтлина и Руты Ванагайте) — кажется, о сложной и богатой «истории вопроса» она не слышала. И если уж «особое пристрастие» писателя к Литве выражается в обращении к са́мому болезненному и трагическому, что есть в литовской истории, то стоило бы, наверное, поговорить на данную тему поподробнее. Но вместо этого мы вдруг читаем:
Удивляет и ее (повести «Лиловый дым». — В.Ш.) конец. Герой повести, чудом унесший ноги из советской Литвы и проживающий в Америке, отказывается идти на суд над литовцами, убившими его семью. Он не хочет продолжать цепочку зла, отвечать на убийство — убийством. Такой «евангельский» образ мыслей был совершенно не характерен для «советских людей». Нет, не были таковыми ни Розинер, ни его герои.
Какими были герои писателя, он знает лучше нас (ведь он их придумал!), а каким был он сам, можно судить лишь на основе личного знакомства или архивных документов… Но какое отношение к делу имеет личность Розинера?
В общем, с логикой у рецензента явные проблемы. С профессиональной этикой, увы, тоже:
В конце 1980-х, работая учителем в московской школе, я написала несколько повестей, одна из которых, «В неведомую глубь», тематически совпадает с романом Розинера. Повести опубликованы в книге «Афинская школа» (СПб.: Алетейя, 2017).
Жаль, что редакция журнала не объяснила своему автору неприличность подобных саморекламных примечаний.
Борис Кушнер. Портрет ушедшей эпохи. Знамя, 2018, № 2
Рецензия на две книги Евгения Берковича из цикла «Революция в физике и судьбы ее героев». Вошедшие в них статьи печатались ранее в периодике, и мы их освещали в наших обзорах. Что до мыслей рецензента, то вот, к примеру, такая:
К достоинствам книг Берковича можно отнести полное отсутствие анахронизма. При оценке поведения людей в начальные годы нацизма писатель-историк должен смотреть на реальность глазами этих людей, не знавших будущего. Водоворот событий, харизматичная личность вождя, национальный подъем увлекли практически весь немецкий народ. Аналогия с коммунистическим энтузиазмом в СССР приходит в голову сама собой.
От этого внеоценочного тона становится немного не по себе. Если же говорить по существу, то коммунизм с нацизмом и похожи, и непохожи. Будем честны — сегодня гораздо проще «смотреть на реальность» глазами Сергея Эйзенштейна или Андрея Платонова, чем глазами Эрнста Юнгера или Лени Рифеншталь образца 1933 года. Проще — не только евреям…
Евгений Беркович. Как зерна меж двух жерновов... Жертвы диктатур в XX веке. Нева, 2018, № 2
Новая работа Берковича посвящена судьбам Эммы и Фрица Нётер, немецких математиков-евреев, покинувших Германию в 1933 году. Эмма отправилась в США (где вскоре умерла естественной смертью), ее брат — в СССР (где стал жертвой репрессий).
По общепринятой версии, профессор Фриц Максимилианович Нётер был расстрелян 8 сентября 1941-го. Однако есть убедительные свидетельства, что его видели в Москве месяцем или двумя позже. Беркович выдвигает гипотезу, что Нётера, так же как деятелей международного социалистического движения Генриха Эрлиха и Виктора Алтера, уже после вынесения расстрельного приговора выпустили из тюрьмы, чтобы он принял участие в создании первого (нереализованного) варианта Еврейского антифашистского комитета. В декабре под влиянием различных обстоятельств настроения властей изменились, Эрлих и Алтер были вновь арестованы, первый из них покончил с собой в тюремной камере, второго расстреляли. Что-то подобное могло произойти и с Нётером.
Весь этот детектив выглядит дико — но не более дико, чем многие истории той эпохи. Можно лишь согласиться с исследователем: «Не нужно искать логики и здравого смысла в преступлениях тиранов». Или точнее, логика, по которой вертелись колесики тоталитарных режимов, существовала, но нам непонятна. Что касается судьбы профессора Нётера, то остается ждать: может быть, в будущем в архивах отыщутся еще какие-нибудь документы о нем…
Лев Бердников. Неоткрестившийся. Нева, 2018, № 2
Герой очерка, Иван Станиславович Блиох (1836–1902), отрекомендован автором в характерном для него восторженно-гиперболическом стиле: «Железнодорожный король России XIX века, банкир, правозащитник, отец пацифистского движения, организатор науки, ученый самого широкого диапазона» (хочется добавить: гигант мысли, отец русской демократии). На самом деле: успешный железнодорожный концессионер, финансист, экономист-теоретик и статистик. Совсем не так мало. Будучи выкрестом (с пятнадцати лет), тем не менее сотрудничал с ОПЕ (Обществом распространения просвещения между евреями в России), оказывал поддержку другим еврейским общественным начинаниям, а в экономических трудах положительно оценивал вклад евреев в хозяйство Западного края. В общем, личность примечательная. Но увы — Бердников настолько утратил способность писать о чем бы то ни было без патетики и сентиментальных придыханий, что собранный им интересный материал пропадает втуне: читать его очерк — тяжелое испытание.
Семен Ласкин. «Я помог возрождению целой группы замечательных художников...» Художники Ленинграда-Петербурга в дневниках 1970–1998 годов. Нева, 2018, № 3
Дневники писателя Семена Ласкина (1930–2005) повествуют о его общении с художниками — и такими классиками, как Стерлигов или Кондратьев, и менее знаменитыми. Среди них немало евреев — не только по происхождению, но и по культурным корням. Примечательно уважительное в целом, но противоречивое и отстраненное отношение к этим корням самого автора дневника:
В свой последний приход к Зисману вдруг Сурис сказал мне: — А ведь это еврейское искусство. Но почему? Мне кажется, у Зисмана это понятно. Мягкость, эдакая туманность, смазанность границ, нежность изображенного, тонкость увиденного, отсутствие контрастности — нет столкновения цветов, черный — белый, все обласкано и любимо. В лучшей части еврейской интеллигенции, где нет торгашеского хамства, — все так и есть. Доброта, тепло, родственность, нежность, большая любовь к родному.
Художник Иосиф Зисман (1914–2004), в глубокой старости переживавший расцвет своего таланта, — один из постоянных героев записок. Он многое видел и о многом вспоминает:
Зисман сказал, что было два писателя, которые интересовались живописью, — Давид Бергельсон и я. Бергельсон посмотрел на пейзаж молодого Зисмана и сказал: «Молодой человек, у вас можно идти направо и налево». Зисман думает об этом всю жизнь.
В целом же перед нами — собрание довольно колоритных историй из художественной жизни Ленинграда. Впечатляют варианты «социализации» художников-модернистов в советских реалиях. Живописец Рувим Фрумак, от которого требовали реалистических картин, нанимал «негров»-халтурщиков, писавших за него заказные портреты, и платил им половину гонорара. Самобытный мастер Овсей Фридман «приносил в Худфонд дикую халтуру по технике безопасности — „Берегите лес!“».
А вообще — один анекдот лучше другого. Например:
Абрам Филиппович (Чудновский, коллекционер. — В.Ш.)… когда к ним приходил Гершов, перевешивал его работу из коридора на место рядом с Шагалом. Гершов долго смотрел на стену, затем вздыхал: — Шагал не очень хорош, к сожалению.
Леонид Юзефович. Убийца. Рассказ. Октябрь, 2018, № 3
Автор интереснейших книг по истории Гражданской войны в Сибири (в том числе знаменитого документального романа о бароне Унгерне, кровавом «белом Будде») и в то же время мастер психологического детектива написал рассказ в манере Перуца (или Борхеса?), отпочковавшийся от унгерновской эпопеи.
Сюжет таков. При описании учиненного Унгерном в Урге, столице Монголии, еврейского погрома упоминается некая девушка, спасенная влюбленным в нее офицером — участником резни. Офицер и девушка бежали в Китай.
Я не знал, как быстро смирилась она с тем, что ее спаситель — убийца ее родных, но в пустынной зимней степи другого выбора у нее не было. Он о ней заботился, кормил, берег от холода, охранял ее сон и рано или поздно перестал внушать смешанное со страхом отвращение. Еще позднее, в Маньчжурии, из благодарности к нему она приняла крещение, пошла с ним под венец, но так и не сумела ответить ему любовью, хотя, наверное, честно старалась это сделать, убеждая себя, что вины на нем нет, ведь если бы он отказался выполнить приказ Сипайло, убили бы его самого. Она с ним спала, и это был его единственный выигрыш в той игре, в которой он поставил на карту собственную жизнь.
В 1922 году в одной из эмигрантских газет появилась статья о том, что героиня этой истории убила своего спасителя, мстя за гибель родных. Но, если верить автору, новые материалы опровергают эту версию. Пара жила под другими именами на маленькой железнодорожной станции в Маньчжурии. Через некоторое время молодая женщина покончила с собой.
Имя этой женщины осталось тайной. Наверное, у нее было два имени: русское — для мужа и соседей и созвучное ему еврейское — для мертвых родителей, сестер, братьев.
Чуть позже бывший офицер был осужден за убийства таежных охотников и сгинул в китайской тюрьме. Сопоставив факты, писатель предполагает: газетная статья про убийство из мести написана самими супругами, чтобы замести следы. Но счастья им это не принесло.
Михаил Горелик. Прогулки по Нарнии. Новый мир, 2018, № 2
Среди прочего эссеист ставит в заслугу Клайву Льюису, автору саги о Нарнии, и то, что он «задолго до Хамаса и Донбасса… описал туннельную войну ("Серебряное кресло", 1953) и гибридную войну ("Последняя битва", 1956)». Ох уж эти эффектные злободневные аналогии, рассыпающиеся при первом же углублении в тему! Многое же в книгах классика-«инклинга» вызывает у современного автора, напротив, или недоумение, или снисходительность. Например, отвращение Льюиса к юношеской сексуальности (даже в самых невинных формах), вообще некая торопливость и топорность при описании всего, относящегося к человеческим отношениям.
Отдельная тема — евреи. Автор статьи высказывает предположение: у «инклингов» их символизируют гномы. У юдофила Толкина гномы в целом весьма симпатичны, у Льюиса — неоднозначны. То, что женой и, видимо, единственной любовью всей жизни Льюиса была еврейка (обратившаяся к христианству), эту неоднозначность не отменяет. Для понимания нюансов стоит знать следующую подробность: один из двух пасынков писателя стал соблюдающим иудеем, не исключено — под влиянием превращения матери из коммунистки в христианку. Христианин Льюис заботился о снабжении этого «гнома» кошерной пищей и оплачивал его обучение в ешиве. Это обстоятельство, делающее писателю честь, придает теме дополнительный объем.
Марина Могильнер. Fin de siècle империи: островная утопия Владимира Жаботинского. Новое литературное обозрение, 2018, № 1(149)
Умная и глубокая статья о духовной эволюции исключительно сильного и талантливого человека, чей идеологический выбор роковым образом расходился с его личной органикой и личными вкусами. Молодой Жаботинский — «имперский космополит», эстет, человек fin de siècle. Разочарование в возможностях модернизации империи и уязвленное национальное самолюбие привели его не просто к национализму, но к национализму расовому, мыслившемуся тогда как наиболее «научный» и «прогрессивный»:
Авангардизм Жаботинского проявился в желании разом покончить с неопределенностью ползучей имперской революции (которая воспринималась в то время как умеренность и склонность к полумерам) и реализовать некогда избранную жизненную стратегию в новой, ясной и понятной версии модерности.
Чем обернется эта версия, Жаботинский знать не мог. Иные пассажи будущего сионистского лидера, написанные им в 1900-е, сегодня читать страшно — настолько одиозна картина мира, которую он пытается поставить на службу еврейскому народу. Могильнер цитирует его «Письмо об автономизме»:
Чувство национальной самобытности лежит «в крови» человека, в его физически-расовом типе, и только в нем. <…> Чтобы еврей, беспримесно рожденный от поколений еврейской крови, усвоил себе психику немца или француза — это так же физически немыслимо, как физически немыслимо негру перестать быть негром; даже еще более немыслимо, потому что ядро психики есть еще более неотделимый и невытравимый расовый признак, чем цвет кожи, лицевой угол и форма черепа. Еврей, воспитанный среди немцев, может воспринять немецкие обычаи, слова, повадки, насквозь промокнуть немецкой жидкостью, — но ядро психики у него останется еврейское, потому что его кровь, его тело, его физически-расовый тип еврейские.
Высказывание вполне в духе эпохи, но что это за дух? С одной стороны, Жаботинский оказывается зеркальным отражением таких одиозных антисемитов, как Иван Сикорский, но отчасти и их единомышленником: ведь он, как и они, выступает против «расового смешения». С другой стороны, рассуждения Жаботинского о невозможности полноценной самореализации евреев в рамках русской культуры близки к позиции его друга Корнея Чуковского. В то же время (и жаль, что об этом не упоминает Могильнер) они любопытно рифмуются с печально знаменитой статьей Андрея Белого «Штемпелеванная культура», где речь идет о вреде засилья евреев (которые не «дурной народ», а «иной народ») для русской словесности. Позиции Жаботинского (еврейского националиста), Чуковского (комплексующего «полукровки») и Белого («антисемита с человеческим лицом» из русской культурной элиты) во многом сходятся, как и их аргументация.
Однако сам Жаботинский опровергает собственные тезисы, создав на склоне лет блестящее художественное произведение на русском языке — роман «Пятеро», который, несмотря на свою чисто еврейскую проблематику, стал, несомненно, частью «одесского текста» русской литературы. В этом романе, по существу, выражено затаенное разочарование Жаботинского — разочарование в том, что он продолжал публично проповедовать до конца своих дней. По крайней мере, так читает его Могильнер — и с ней трудно не согласиться:
В романе о дезинтеграции современных империй — метафорических Одесс — появление национального острова на обломках больших континентов вовсе не выглядит моментом постколониального триумфа. Напротив, оно ощущается как личная трагедия и социальная катастрофа, как жертва, принесенная на алтарь будущей нации. Культура приносится в жертву природе («почве», «крови»), сложность — простоте, гибридность — чистоте форм, а манящая, порой аморальная, но столь прекрасная свобода — угрюмому детерминизму расы.
Степан Стурейко. Холокост свободного человека. Неприкосновенный запас, 2018, № 1(117)
Материал вильнюсского исследователя посвящен «следам Холокоста» в современной польской культуре и современном польском обществе в целом. Официальный дискурс наталкивается в Польше на ряд проблем, причем антисемитизм, проявляющийся не только на народном, но, отчасти, и на публичном уровне, — лишь одна из них:
В 2015 году, во время европейского миграционного кризиса, в польскоязычном Facebook разразилась истерия. Люди открыто, от своего имени «отправляли» будто бы проникающих в страну беженцев в газовые камеры, припоминая, что Гитлер «оставил нам хорошую инфраструктуру»... Высказывания стали настолько типичными, что даже был создан паблик «Поляки, которым нравится вид мертвых иммигрантов» с наиболее одиозными цитатами, сопровождаемыми фотографиями авторов. Таким образом топика Холокоста нашла себе удобное применение и в антиисламской риторике. Парадокс: поляки-«патриоты» словно признавали себя наследниками концентрационных лагерей, на опровержение чего еще недавно было потрачено столько сил.
Неослабевающая травматичность опыта вызывает желание говорить о нем непривычным языком. Но сам по себе этот язык, с точки зрения некоторых наблюдателей, оказывается кощунственным. Так, крайне разноречивые отклики вызвали перформанс Рафала Бетлеевского «Горящий сарай» (2010), проведенный в день 69-й годовщины трагедии в Едвабне (художник поджог сарай изнутри), и инсталляция Збигнева Либеры «LEGO. Концентрационный лагерь».
Подготовил Валерий Шубинский
|
      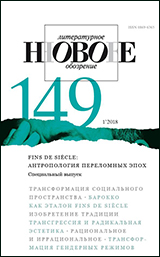  |


