|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 138 / Февраль 2019 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Давид Маркиш. Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека. Дружба народов, 2018, № 10
Речь идет об эпидемиологе Владимире (Маркусе-Вольфе) Хавкине. Эпиграф — из письма Чехова к Суворину:
Чума не очень страшна, мы имеем уже прививки, оказавшиеся действенными и которыми мы, кстати сказать, обязаны русскому доктору Хавкину, жиду. В России это самый неизвестный человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом.
(Заметим, что слово «жид» классик часто употреблял с нейтральной интонацией, хотя в его время это было уже не принято. Отношение Чехова к евреям оставалось неоднозначным, но в целом скорее доброжелательным, адресовано же его письмо человеку, проявлявшему свой антисемитизм широко и публично.)
В журнале напечатаны три главы из романа. В одной идет речь об участии Хавкина в революционном движении. Товарищи будущего ученого по народовольческому кружку совершают в Одессе убийство генерала Стрельникова, военного прокурора. Маркиш описывает это весьма выразительно и не без натурализма:
Облако дыма отнесло от лавочки ветерком, и Володя увидел на земле два тела: Стрельникова со свернутой на сторону головой и даму с оторванными по колено ногами. <…> Девушка была жива, конвульсии пробегали по телу искалеченной. Хрящи раздробленных колен розовели, мясо выше колен было непристойно задрано с костей до середины бедер… Мы сделали свою работу, и главное — результат. Вот он валяется, результат со свернутой шеей. Мы исправили мир, мир стал лучше на одного человека. А девушка? Ну, девушка не в счет, девушка в синей шляпке — мусор истории.
Только вот на самом деле Стрельникова убили выстрелом из револьвера, а не при помощи бомбы, и никакая девушка при том не пострадала. Непонятно, зачем было прибегать к домыслам. Ради дешевого эффекта? После этого и страницы о том, как Хавкин, сотрудник лабораторий Мечникова в Лозанне и Пастера в Париже, подрабатывал грузчиком и циркачом, читаешь с крайним недоверием.
Ну и финал:
Они шли рядом, Фигнер и Пастер, и Хавкин молча глядел на них из-за своей стойки. И уверенность в том, что не смертельная охота Фигнер на царя, а борьба Пастера со смертью исправит мир и сделает его добрей, не оставляла Хавкина. В этой паре идущих по коридору Пастер был лучше.
Несколько «в лоб», прямо скажем…
Галина Климова. Пасташутта. Повесть. Дружба народов, 2018, № 12
Героиня повести — «Маршак Маргарита Семеновна, 1903 г. р., домохозяйка» — примечательна, собственно, только одним: ее старшая сестра Нина — жена крупного советского государственного деятеля, второго председателя Совнаркома Алексея Рыкова (а до этого — будущего секретаря Коминтерна Осипа Пятницкого). Сама же Маргарита (изначально Ида) и ее муж, инженер Златкин Арон Соломонович, «1902 г. р. — член ВКП(б), незаконченное высшее, из семьи служителя еврейского религиозного культа», — люди маленькие. Маргарита умерла от тяжелой болезни в 1937-м, муж ее три года спустя погиб в лагере. В общем, история заурядная, но рассказать ее можно интересно: Рыков и его коллеги по Политбюро глазами родственников…
Увы, всё портит неумелая беллетризация, основанная к тому же на плохом знании материала. Якобы назначение Рыкова на высший пост в стране было неожиданным, «все думали, будет Бухарчик». На самом деле никто не прочил кабинетного интеллигента-теоретика Бухарина в премьеры. Выбор стоял между заместителями Ленина — Каменевым и Рыковым. Выбрали Рыкова как «чисто русского человека». Еще более странно следующее утверждение: Рыков-де «держит равновесие между левыми и правыми, между Бухариным и Семашко». Семашко, врач по профессии и соответственно нарком здравоохранения, во фракционной борьбе вообще не участвовал.
В довершение всего родители главной героини то и дело говорят «ай вэй», «вэй из мир» или «тум-балалайке, шпиль-балалайке», тем самым «ненавязчиво» сообщая читателю о своем еврействе.
Елена Чижова. Город, написанный по памяти. Роман. Звезда, 2018, № 10
Тема нового романа петербургской писательницы — семейная история. Сквозная тема:
Смерть, где твое жало? Год за годом задаваясь этим неотвратимо-мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не догадалась: оно здесь — в моей бедной, в моей загубленной стране. В моем прекрасном, в моем несчастном городе. В моей семье.
Соприкосновений с «жалом смерти» в романе более чем достаточно: начиная с того, что рассказчица родилась в специальном отделении для рожениц, больных туберкулезом. Мать, страдавшая этой болезнью, решилась выносить и родить ребенка вопреки запретам врачей. Ну и, конечно, соприкосновения со смертью — в биографиях всех предков по всем линиям. Тут и война (воевал отец), и Холокост, и блокада, и сталинский террор (один двоюродный дедушка скрывается от ареста, а другой — вертухай в лагере). Подробности, конечно, поражают:
От эвакуации из родного Мозыря — как ни просили, ни умоляли жена и старшие дочери — мой дед отказался наотрез, положившись на образ «благородного германского офицера», который застрял в его памяти со времен Первой войны. <...> В письме, которое мой отец получил от него, уже будучи на фронте, дед рассказывал, как, проводив домашних, бродит по дому в одиночестве, сомневаясь в правильности своего решения. Итогом этих раздумий стало следующее: накануне отправки в гетто он и еще несколько таких же дряхлых старцев — дабы избегнуть уготованных им унижений, а заодно плюнуть в морды эсэсовским карателям — заперлись в его доме и, не прерывая громких молитв, совершили то, что на языке «протокола осмотра места происшествия» называется актом самосожжения. Хотя в этом, последнем, пункте белорусы-очевидцы расходятся: будто бы дом подожгли не сами обреченные, а соседка не иудейского вероисповедания — по их просьбе.
Насколько правдоподобна первая часть нарратива, настолько «литературной» может показаться вторая, жуткая… Но она реальна. Мозырское самосожжение — исторический факт. Причем в жизни все было еще ужасней, чем в романе. Смерть в огне приняли около сорока человек — и далеко не только старики, но и молодые люди, и шестилетний ребенок. Дом подожгла не соседка, а — по жребию — девятнадцатилетняя девушка, погибшая вместе с другими.
Но — вернемся к семейной истории, отраженной в романе Чижовой. Предки рассказчицы — ремесленники (русские по материнской, еврейские по отцовской линии), выбившиеся в технические интеллигенты (характерные советские биографии). Родственники по матери против смешанного брака не возражают, по отцовской — недовольны («шлимазл выбрал шиксу, к тому же разведенку»). Дальше — тоже характерный сюжет:
Собственно, отличные знания, полученные на молочно-мясном факультете, маму и подвели. …На другой день после свадьбы мама решила сварить мясной суп. И с этой целью взяла первую попавшуюся кастрюлю. Как назло именно ту, что предназначена «под молоко». Оскверненную емкость пришлось немедля, тем же вечером, выбросить — что свекровь и сделала, на первый раз деликатно смолчав. Видимо, надеясь, что ужасное осквернение случилось по недоразумению и впредь никогда не повторится, особенно если тактично поговорить с сыном, чтобы тот, в свою очередь и тоже тактично, но твердо…
В общем, «сырая» реальность органично становится литературой — именно потому, что автор умеет скрыть свои старания. В чем, между прочим, и заключается мастерство…
Марк Зайчик. Судьба Льва Иваныча. Звезда, 2018, № 12
Трогательный рассказ про великого футбольного вратаря Яшина, оставившего спорт, преждевременно постаревшего, заболевшего и умершего в шестьдесят лет. Среди прочего описана поездка Яшина в Израиль (незадолго до смерти, в 1990 году):
Яшу возил по Израилю небольшой человек, оказавшийся бывшим москвичом, бывшим одноклубником. Звали его Йосей. <…> Леву он ценил и уважал, называл Львом Иванычем, возил на большой машине, помогал пересаживаться на коляску и катал по разным улицам этой небольшой, но солнечной страны. Привез он его и к Стене Храма. Лев Иванович Яшин надел по всем правилам картонную шапочку и написал свою скромную просьбу. Вложил записку в стену, поцеловал камни и простился со Стеной. «Эх, Йосик, поехали обратно, жаль, что на колени там не встают, а то бы умолял на коленях». — «Там встают на колени», — сказал Йося, но не слишком уверенно.
Владимир Черняев. Троцкий в Нью-Йорке. Звезда, 2018, № 12
Суховато, но дельно написанная статья про пребывание одного из главных деятелей мирового коммунизма в Нью-Йорке во время Первой мировой войны. Разве что по части еврейских культурно-исторических реалий текст несколько «хромает»…
До октября 1916 года Троцкий жил во Франции, откуда был выслан. По его мнению — из-за происков российского посольства, которое «распространяло слухи, что русские эмигранты — сплошь евреи-германофилы, работающие в интересах Вильгельма II», в действительности же французские власти сами решили избавиться от избытка на собственной территории социалистов-интернационалистов.
Как известно, Троцкий к своему еврейскому происхождению относился равнодушно. Но в США оно немало ему помогло: «На пирсе Манхэттена под дождем встречал его сам Артур Конкорс, глава Общества помощи евреям беженцам и иммигрантам». Нью-йоркская газета сообщала, что «Лев Троцкий, социалист, говорящий по-русски, на идиш и по-французски, но не по-английски, представитель еврейских газет в Киеве и Петрограде, изгнан из Франции, поскольку издавал и пытался распространять среди русских солдат "Наше слово", русское издание с пропагандой мира». Для местных еврейских журналистов и общественных деятелей знание российским социалистом идиша (на самом деле в лучшем случае поверхностное и чисто разговорное) — важный психологический элемент. Троцкий — не просто еврей по крови, он, как хотели бы считать авторы заметки, «свой». Довольно быстро новоприбывший сделался постоянным автором «Форвертс» (речь идет о социалистической газете на идише, но историк почему-то пишет ее название почти на немецкий манер — «Vorwerts», ошибочно утверждая вдобавок, что там якобы печатался и Шолом-Алейхем).
Но «роман» русских и американских (в том числе американо-еврейских) социалистов продолжался недолго. Даже тогдашний Троцкий был гораздо левее, к примеру, Юджина Дебса и не скрывал своего презрения к «оппортунистам». А его отношения с «Форвертс», занявшей после вступления США в войну патриотическую, а значит антигерманскую позицию, стали прямо враждебными. Вскоре, впрочем, революционер отплыл обратно в Старый Свет — навстречу славе. Чтобы спустя годы вернуться на американский континент — опять изгнанником — и там погибнуть…
Наталья Бонецкая. Философский бунт Льва Шестова. Звезда, 2018, № 12
Обстоятельная, но доступная непрофессионалу статья о крупнейшем мыслителе-экзистенциалисте. Немало внимания уделяется еврейскому аспекту его философии. Наряду с отвержением традиций «еврейского законничества», которое отмечал Бердяев, автор статьи указывает и на «встречное движение в душе Шестова — порыв к еврейским истокам, к библейским праотцам».
Далее тезис раскрывается:
Истина, по Шестову, открывается только навстречу вере, а для стяжания веры необходимы особые ситуации. Для себя самого он избрал нечто особенное — экзистенциальное отождествление с Авраамом. <…>…Шестов пытается опытно спуститься в архаичнейшие пласты собственной души — перенестись во времена, когда человек воспринимал мир совсем не так, как ныне. Речь в действительности идет о психоаналитической процедуре на манер тех, что практиковал К.-Г. Юнг, погружавшийся в бессознательное, где, по его объяснению, встречался с языческими божествами. Но архаика Шестова не языческая, а иудейская.
Эти устремления связаны с таким фундаментальным элементом философии Шестова, как поиски истины «помимо всякого интеллекта». И они, разумеется, не означают, что автор «Афин и Иерусалима» был «правильным иудеем». Об этом в статье тоже сказано достаточно.
Анна Сергеева. Еврейский квартал. Знамя, 2018, № 11
Претенциозные, но малоизобретательные микрорассказы на условно-библейские сюжеты. Про Ноя, например:
Он знал, что спаслись только он и его семья, что такова воля Б-жья и что ему повезло, но почему-то не радовался. Он вспоминал, как играл в детстве с дочерьми Туваль-Каина, и что младшая, Лия, добрая и статная, ему очень нравилась. Позднее она вышла замуж за иностранного джина и отбыла на родину мужа. Он был известный городской сумасшедший, которого и стыдились, и жалели. Жена вышла за него в пику отцу. Но было и свое преимущество: когда он строил ковчег, многие горожане приносили ему бревна бесплатно…
Примечательно здесь и написание слова «Бог» через черточку, словно «Знамя» — не солидный русский литературный журнал, а орган современной еврейской ультраортодоксии.
Евгений Беркович. Границы понимания и безграничность непонимания. Полемика Томаса Манна с Якобом Вассерманом по еврейскому вопросу. Нева, 2018, № 10
Споря со своим другом, немецким писателем еврейского происхождения (автором «Каспара Хаузера» и других романов), Манн упрекает его в переоценке антисемитских настроений в Германии:
Существует ли вообще эта национальная жизнь, из которой еврея якобы пытаются вытеснить, в отношении которой ему могли бы выказывать недоверие? Может ли Германия, такая космополитичная, какой она является, все принимающая, все пытающаяся переработать, имеющая национальный характер, в котором вечно борются северное язычество и южная страстность, смешиваются западная гражданственность и восточная мистика, — может ли она быть почвой, в которой ростки антисемитизма могли бы пустить глубокие корни?
Это «преувеличение» Манн склонен объяснять «писательской ипохондрией». Мол, и ему самому, как и Вассерману, приходилось сталкиваться с трудностями и непониманием — но ведь такова участь художника. Спор происходил в начале 1920-х. История рассудила спорящих — самым страшным образом доказав Манну его неправоту. В речах 1945 года он упрекал соотечественников за слепоту, рассказывая о печах Освенцима и Треблинки…
Тем не менее, как указывает Беркович, «все события Второй мировой войны не поколебали у писателя веру в то, что евреи представляют собой единый сплоченный коллектив, что существует некий общий для всех „еврейский дух“». Подобная вера (не всегда являющаяся проявлением антисемитизма) — примета людей определенной эпохи и поколения. В любом случае тема заслуживает отдельного разговора и к полемике Манна с Вассерманом, имевшей место в 1921 году, кажется притянутой искусственно.
Марианна Кияновская. Из книги стихов «Бабий Яр. Голосами». Новый мир, 2018, № 11
Цикл переведен с украинского двумя крупными современными русскими поэтами — Полиной Барсковой и Марией Галиной. В предисловии, написанном Барсковой, заходит речь о «неудобном», о том, что всегда стоит на пути поэта, пишущего о несказуемом ужасе:
…вопрос, может ли живой говорить от лица мертвого, убитого, лишенного права на высказывание, не представляется мне ни наивным, ни абсурдным…
И мне не представляется. Барскова, одна из тем творчества и научных штудий которой — ленинградская блокада, несомненно, знает, о чем говорит. Только не стоило бы, наверное, ссылаться на американские академические дискуссии об «апроприации опыта» — о том, скажем, может ли гетеросексуал говорить от имени гея. Это совсем, совсем другое…
Что до стихов, то, увы, для этого материала они чрезмерно сентиментальны и «украшенны». Особенно регулярные, рифмованные (Барскова, кстати, в своем предисловии касается этой проблемы: мертвые, воскресни они и обрети голос, едва ли избрали бы изысканную стихотворную форму). Это не упрек переводчикам: они, видимо, честно сделали свое дело.
Рифмованный текст Кияновской звучит в русском переводе так:
плачу иду озираясь все-таки плачу плачу иду открывая ворота слезам плачу иду и не вижу не вижу не бачу людей и толпу вижу слезы бальзам
А верлибрический — так:
ребе лейви ицхак шнеерсон проездом в киеве говорил отцу боль это место в будущем место которое несешь с собой в будущее его унаследуют дети и дети детей я стал боль когда выполз из-под белых тел стал солнце месяц дедов и бабий яр стаю на стул ногами как волк вою и вою а они шепотом: не плачь гершеле место где лежала маца как солнце и месяц
Все-таки и здесь — попытка спрятаться от ужаса за рассуждениями, за образами… Но как избежать этого?
Артемий Леонтьев. Варшава, Элохим! Роман. Октябрь, 2018, № 12
Сразу же отпугивает пафосное предисловие Евгения Попова:
«Варшава, Элохим!» Артемия Леонтьева — читаемое доказательство того, что русская литература, создаваемая нашими современниками, и сейчас способна на такой серьезный разговор, который предлагает нам юный автор. И не всё в этой новой литературе хихоньки да хахоньки, попса, «креатив», недомыслие, «чернуха», постпостмодерн…
Далее некстати упоминаются Платонов и Гроссман — потому что они когда-то печатались в «Октябре», а также Аксенов и Шукшин — потому что они учителя автора предисловия.
Текст производит впечатление более приятное — особенно поначалу:
Окостеневший и ломкий город с прокопченными кровлями, избитыми в труху стенами — рыхлыми, какими-то предобморочными, осевшими. Авианалеты и артобстрелы сентября 39-го истерли в пыль, растрепали почти половину столицы, расцарапали ее контуры.
Ну что ж, автор стремится писать настоящую прозу. Позже, правда, впечатление портится — видно, что он уж слишкомстарается. Текст выходит искусственным, недышащим, а потом вдруг перебивается сухой исторической справкой. Но хуже всего, когда герои открывают рот:
Отто обнял Эву. — Да, это главное… Ты станешь моей женой, и у нас будут дети… Эва прижалась сильнее, крепче охватила исхудавшего Отто. <…> — А твоя матушка? Она не будет против? Ты же иудей, а я христианка… Отто поцеловал девушку в губы: — Если она выжила, то, конечно же, будет против. Даже мой отец, уж на что папа Абрам был либерален, в свое время постоянно повторял, что если мне взбредет в голову полюбить христианку и стать выкрестом, то он не захочет меня больше видеть… Эва шмыгнула носом и обхватила пальцами золотой крестик, блеснувший в смрадной темноте канализации: — Я крест тоже никогда не сниму, даже ради тебя. Отто улыбнулся: — Тогда после войны найдем какой-нибудь островок, где нет ни политики, ни религиозных традиций, и станем жить там.
Таким языком говорят влюбленные, бегущие по канализации из Варшавского гетто.
Да, произведение — о Варшавском гетто. Точнее — о немолодом немецком офицере Франце Майере, архитекторе-еврее Отто Айзенштате и польской медсестре Эве Новак, помогающей евреям. И о поступке Майера, который в некий решительный момент не стреляет в Отто и Эву. Но так выстроить характеры, чтобы финал не выглядел плакатно-надуманным, автору не удается. Вместо попытки показать мир таким, как он видится Францу, Отто, Эве, — мелодрама. В подробностях описано, как Эву насилуют и пытают в гестапо, но Сопротивление организует ей побег, ее выхаживают, и она встречает свою любовь. И на многие страницы — прилежный исторический ликбез. Автор сообщает о Варшавском гетто всё, что обычно о нем сообщают: Януш Корчак и его сироты, Мордехай Анилевич и его бойцы, председатель юденрата Черняков, спекулянт Ганцвайх…
В общем, роман не спасают ни гуманистический пафос, ни даже несомненный, прорывающийся кое-где в описаниях талант автора. Впрочем, 27 лет для сочинителя крупноформатной прозы — немного. Может быть, еще распишется…
Ефим Гаммер. Хождение в жизнь. Урал, 2018, № 10
Израильскому прозаику свойственны экспрессивный, динамичный стиль — и чрезмерный, порою до мелодраматизма, эмоциональный напор. Вот и тут — живое описание поезда, везущего репатриантов из Ленинграда в Вену. Хамство и подлость проводника, вымогающего «доллары», презрение поляков-попутчиков… Но везде — чуть-чуть пережато. Перебор пафоса:
Нас залило волной осуждающих взглядов, злых фраз польских дам и их кавалеров с отвисшим пузом и стукнуло друг о друга, как два кремня. Искры из глаз и в сердце. Наше сердце полыхнуло скрытым огнем, но так жестоко, как некогда танк попутчика нашего, старика с обожженным лицом, напрасно вызванивающего медалями в надежде на снисхождение.
Федор Николаи. Память о нацизме и Холокосте в современной культуре: этический долг и(ли) эстетический прием. Новое литературное обозрение, 2018, № 6(154)
Редкий пример рецензии на книги, пока еще не переведенные на русский язык: «Хай, Гитлер! Как нацистское прошлое нормализуется в современной культуре» Гавриэля Розенфельда (2015) и «Холокост в репрезентациях третьего поколения: травма, история и память» Виктории Ааронс и Алана Бергера (2017).
О чем первая из них? О том, что Холокост перестает восприниматься как уникальное зло:
…ревизионистская историография 2000-х гг. предлагает рассматривать Холокост в широком контексте массовых убийств и насилия эпохи «модерности». <…> В дискуссиях последнего десятилетия тезис об уникальности Холокоста сменился вопросом о том, может ли он выступать «типичной моделью» для геноцидов в целом или же воспроизводит европоцентристский канон, отодвигая на задний план другие (прежде всего колониальные) массовые убийства.
В самом деле, можно ли преуменьшать страдания жителей Бельгийского Конго только потому, что они не могли рассказать о себе так, как евреи? И (проецируя уже на нашу страну) — не ведет ли утверждение уникальности Холокоста к частичному оправданию сталинизма? Однако, как только мы от этого ощущения «уникальности» отказываемся, к Холокосту начинают приравниваться любые страдания любой этнической или социальной группы — и немыслимое «нормализуется».
Другой аспект — «эстетизация» и «ироническая репрезентация» нацизма в художественных текстах. И здесь все непросто: с одной стороны, невозможно ограничивать художественные поиски и сводить реакцию на зло к банальной патетике, с другой — «ирония… превращает термин "нацизм" в "пустое означающее"… пригодное для любого содержания и свободное от каких-либо моральных коннотаций». Но (об этом книга Ааронс и Бергера) художественные поиски, часто спорные, — это отклик на объективную социокультурную ситуацию:
Внуки выживших наряду с отсутствием прямого опыта столкнулись с «нормализацией» знания о Холокосте, которое вошло в учебники и стало превращаться в общеизвестную и потому безличную «историю, оставшуюся в прошлом».
Поэтому «эстетизация» травмы, игры воображения, часто провокационные, вызывают у соавторов больше симпатии, чем у Розенфельда. Во всяком случае, это отмечает рецензент.
Маркас Зингерис. Иллюзион. Виньетка времен одного кинолюбителя. Иностранная литература, 2018, № 11
Непритязательный и милый рассказ про влюбленного в кино бывшего зубного техника Арончика, который, скопив денег, покупает кинотеатр. Дело происходит в Каунасе 1920–1930-х годов:
…Арончик сделался богемным. Стал бывать «У Конрада», носил черный плащ с пелериной, белую розу в петлице и котелок. Это, кстати, и тогда выглядело старомодным, таких чудаков можно было встретить разве что среди фокусников из бродячего цирка.
Миру, окружающему эстета Арончика, осталось существовать считанные годы. Сам он, однако, не гибнет в гетто и не становится жертвой сталинских депортаций. Конец настигает его раньше. Владельца «Иллюзиона» губят амбиции — он берёт огромный кредит на прокат голливудского «Дон-Кихота» с Шаляпиным, прогорает и вешается в аппаратной…
Йонас Мекас. Письма ниоткуда. Отрывки из книги. Иностранная литература, 2018, № 11
Дневник американского кинорежиссера литовского происхождения. Между прочим он читает эссе Эммануэля Левинаса про Авраама и Одиссея:
Я решил, что для литовцев Авраам куда больше подходит, куда интереснее, чем Одиссей. <…> Иногда я жалею, что я не еврей. Но кто знает — никто еще не открыл, откуда литовцы взялись…Что бы вы сказали, если когда-нибудь откроют, что мы все — евреи, а?
Учитывая то, что мы знаем о судьбах литовского еврейства, это благодушие, пожалуй, совсем не умиляет.
Джанни Клементи. Еврей. Пьеса. Иностранная литература, 2018, № 12
Действие пьесы итальянского писателя происходит в 1950-е годы, но приметы времени (в том числе языковые) соблюдены, видимо, весьма приблизительно. Во всяком случае, в переводе попадаются такие слова, как «гей», — можно предположить, что простые итальянцы пользовались тогда более сочными и менее политкорректными оборотами.
Сюжет таков: в конце войны, перед депортацией в концлагерь, еврейский предприниматель переписал свое состояние на продавца Марчелло и его жену Иммаколату — с условием отдать всё обратно, когда он возвратится. И вот спустя тринадцать лет Марчелло и Иммаколате кажется, что «хозяин» вернулся и следит за ними. Марчелло готов выполнить условие договора:
…здесь все фальшивое. Фальшивое. Ты разве не видишь? У нас было четыре хромых стула с продавленными сидениями, но мы их сами выбрали. А вот этот стул... Мне всегда было неудобно на этом стуле. Я себя чувствую на нем так, как будто мне подложили горящие угли под... ты понимаешь, о чем я говорю? Достоинство, Иммаколата. Вот чего мне не хватает. Мне не хватает достоинства.
Но Иммаколате не хочется вновь оказаться в нищете. Она подговаривает мужа убить «хозяина». Финал ожидаем: супруги пали жертвами галлюцинации, вместо вернувшегося «хозяина» они убивают своего приятеля Умберто.
Метафора очевидна. Холокост в пьесе предстает как преследующий обывателя и побуждающий его к новой агрессии призрак вины. Но, к счастью, драматург не навязывает читателю аллегорическое прочтение сюжета.
Игорь Петров. «Все самочинцы произвола...»: подлинная биография Сергея Таборицкого. Неприкосновенный запас, 2018, № 6(122)
История убийцы Набокова-отца похожа на какой-то рассказ Набокова-сына. Впрочем, за этот сюжет взялся бы и Борхес. И Честертон.
Отсидев за убийство и выйдя на свободу, ультраправый деятель русской эмиграции Сергей Таборицкий делает карьеру в Третьем рейхе. Ссылаясь на свое происхождение из прибалтийских немцев, он добивается признания себя арийцем высшего сорта, вступает в НСДАП и под конец становится главным куратором русских эмигрантских организаций от партии и гестапо.
Этому предшествовала, однако, долгая борьба за немецкое гражданство. Согласно одному из его письменных прошений, биография доблестного борца с большевизмом и мировым еврейством включала такие эпизоды:
Перед февральской революцией он служил во 2-м Сибирском горном артиллерийском дивизионе командиром батареи, но в 1917 году покинул армию, так как не хотел сражаться под командованием «расово чуждых военачальников». <…> Попав в Берлин, Таборицкий работал в газете «Призыв» и журнале «Луч света», издававшихся известным борцом против евреев и масонов, полковником Федором Винбергом. Они вели ожесточенную борьбу с масонством. Кроме того, именно Таборицкий… привез в Германию уцелевший экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», благодаря чему арийцы впервые узнали об их существовании.
Историк постепенно, опираясь на архивы, вносит коррективы в различные биографические мифы (всё оказывается намного скромнее и прозаичнее) — и наконец добирается до настоящей «бомбы»:
11 июня 1915 года братья Сергей и Николай Таборисские (sic! — В.Ш.) подали в Петроградскую духовную консисторию заявление, которое начиналось так: «Мать наша Анна Владимировна до принятия православия именовалась Хана Вульфовна Левис, происходила она из еврейской семьи, вероисповедания была иудейского и более 30-ти лет назад вышла замуж за первого своего мужа, мещанина города Ошмян Виленской губ[ернии] Вульфа Айзиковича Таборисского, который также был иудейского вероисповедания».
К рождению сыновей Вульф Таборисский отношения не имел: в 1887 году он уехал в Америку, а пару лет спустя Хана Вульфовна крестилась. Отцом борца с мировым еврейством являлся купец Сергей Запевалов. Поскольку брак супругов Таборисских был расторгнут лишь в 1899-м, Сергей и Владимир считались законнорожденными — а требовали от консистории статуса бастардов, «рожденных от неизвестного православного лица», полагая, что это облегчит им поступление в военное училище. Прошение оставили без удовлетворения.
Так началась карьера монархиста и антисемита, одним из эпизодов которой было покушение на Милюкова — и случайный выстрел во Владимира Дмитриевича Набокова…
Подготовил Валерий Шубинский
|
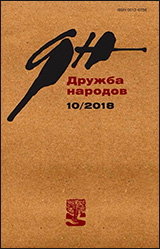        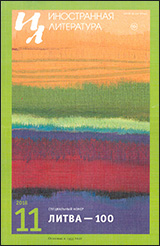  |


