|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 138 / Февраль 2019 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Миндаугас Кветкаускас. Фирины ножнички. Иностранная литература, 2018, № 11
Начиная с эпохи перестройки Эсфирь Брамсон (1924–2016) работала главным хранителем еврейской коллекции в Книжной палате Литвы, позже — в Национальной библиотеке. Она много сделала для сохранения и систематизации остатков былых книжных сокровищ Литовского Иерусалима. Немалую роль в ее персональном «мифе» сыграло и то, что по-еврейски называется «ихес», то есть родовитость. Старшими братьями ее отца, каунасского идишиста и общественного деятеля Тимофея (Тувия) Брамсона, были прославленный адвокат, депутат Первой Государственной думы, а в эмиграции председатель Всемирного союза ОРТ Леонтий Брамсон и видный врач-гигиенист, один из основателей ОЗЕ (Общества здравоохранения евреев), последний руководитель Еврейского музея в Ленинграде Абрам Брамсон. В первые постсоветские годы, когда все отчаянно пытались починить порвавшуюся «связь времен», Эсфирь Брамсон, отпрыск легендарной семьи и выпускница еврейской гимназии, стала живым воплощением утраченного прошлого.
Именно ей и посвящено эссе вильнюсского литературоведа, директора Института литовского языка и литературы Миндаугаса Кветкаускаса, напечатанное журналом «Иностранная литература» в специальном «литовском» номере. К сожалению, благие намерения и добрые чувства не заменяют здравого смысла — вот первое, что приходит в голову при знакомстве с этим текстом.
Начать с того, что Кветкаускас везде называет героиню только по имени — Фира, Фирочка, Эсфирь, Эстер бат Исраель. Возможно, в Вильнюсе всем понятно, о ком идет речь. Но за его пределами — увы, нет. Журналу стоило хотя бы в сноске указать, кто такая эта загадочная Эсфирь, как минимум — привести ее фамилию.
Пиетет, с которым эссеист относится к своей героине, сыграл с ним злую шутку. Описывая аристократизм и «династическое высокомерие» Брамсон, он, сам того не желая, выставляет ее некомпетентным библиотекарем, способным пропустить мимо ушей просьбу читателя, если тот не предоставит ей «изрядную долю знаков внимания и комплиментов». Подводит автора и излишний пафос. Собрание Книжной палаты он склонен считать чуть ли не «Вавилонской библиотекой» Борхеса, между тем это лишь чудом сохранившиеся, пусть и очень ценные, обломки множества уничтоженных еврейских книгохранилищ. Более того, порой кажется, что недавнее прошлое Литвы уже превратилось для Кветкаускаса во что-то вроде забытой легенды. Его поражает, что в 1940 году гимназистка Брамсон вступила в комсомол. Дескать, как она могла! Очевидно, литературовед ничего не слышал о «левых» симпатиях еврейской интеллигенции, особенно идишистов, да и просто плохо понимает исторический контекст, заслоненный в его глазах нынешней идеологией.
А идеология между тем многое в рецензируемом эссе определяет. В последнее время отличительной чертой появляющихся в Литве публикаций по иудаике стало навязчивое и некорректное использование термина «литваки». На самом деле это просто обозначение носителей одного из диалектов идиша. Абсолютное большинство литваков исторически проживало вне территории современной Литовской Республики. Изобретение каких-то особенных литовских «литваков» — результат совместного мифотворчества местной политической элиты и подыгрывающих ей деятелей еврейской общины страны. Вполне в духе этой тенденции Кветкаускас отчетливо предпочитает неологизм слову «евреи». Так, он пишет, что Эсфирь Брамсон «происходила из почтенной, повсеместно уважаемой семьи литваков», а ее воспоминания представляли собой «живую устную историю интеллигенции литваков». На похоронах Эсфири к нему подсаживается «одна из женщин — потомок литваков». Похоже, скоро «литваки» встанут в один ряд с «татами», «крымчаками» и прочими еврейскими «криптонимами». Подводя итог: попытка вильнюсского филолога и московских редакторов сообщить читателям, что в Литве жили не только литовцы, вышла настолько неудачной, что, в сущности, не стоило и пытаться. |
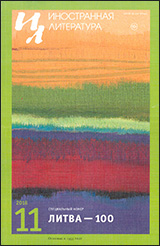 |


