|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 138 / Февраль 2019 In memoriam
|
|
||||||||
|
Амос Оз (1939–2018)
1
Смерть Амоса Оза вызвала немало откликов — причем самых противоречивых. Публичные почести выдающемуся писателю отданы. Но в социальных сетях, в том числе русскоязычных, нашлось место и для оскорбительных высказываний, затрагивающих политические убеждения покойного. В том, что касается арабо-израильского урегулирования, Оз занимал позицию радикальную. Ради предполагаемого (но ничем не гарантированного) мира он был готов принести в жертву многое, в том числе интересы и достоинство части своих соотечественников — поселенцев на удерживаемых Израилем территориях. Он обращался с сочувственными и дружелюбными письмами к палестинским террористам, сидящим в израильских тюрьмах. Можно видеть в его принципах смелость и мудрость, можно — далекое от прозорливости интеллигентское прекраснодушие. Находятся и те, кто видит в позиции Оза национальное предательство. Смерть никого с ним не примирила.
Обо всем этом, вероятно, и не стоило бы сейчас упоминать, если бы политические споры, обвинения и травмы не отражались в книгах Оза, более того — не были связаны со сквозными темами его творчества.
В одном из последних произведений писателя, романе «Иуда» (2014), создается образ вымышленного общественного деятеля, сподвижника Бен-Гуриона Шалтиэля Абрабанеля, выступавшего против создания еврейского государства — ведь национальные государства обречены, совсем скоро «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» (нет, герой Оза не цитировал Пушкина — хотя мог бы). Возвышенный мечтатель, Абрабанель стяжал репутацию «предателя». Но что такое предательство? Шмуэль Аш, молодой герой романа, размышляет о трагических отношениях иудаизма и христианства, об Иуде Искариоте, ставшем для христиан символом измены, ренегатства, отступничества. Взгляд Аша (и, вероятно, автора) на этого библейского персонажа нестандартен… Хотя не так уж и нестандартен. Кто читал Борхеса или даже Леонида Андреева, тот не особенно удивится. Но дело не в оригинальности. Дело в проблематизации мифа. И в отсутствии ответа.
В конечном итоге неправота Абрабанеля на конкретно-историческом уровне очевидна. На его глубинной правоте писатель тоже не настаивает — как не уверен он и в правоте Гершома Валда, оппонента Абрабанеля. Оза вообще интересует не правота, а горькая правда неправых. Без этого тот же «Иуда» (в целом, прямо скажем, не лучшая книга покойного прозаика) остался бы рядовым образцом политической беллетристики с метафизическими претензиями. Углубляясь в творчество Оза, мы постоянно — на протяжении полувека — встречаем этот мотив. Вот один из самых значительных его романов, «Познать женщину» (1989). Тема (как сформулировал ее сам Оз) — «превращение героя Хемингуэя в героя Чехова», обретение «настоящим мужчиной» сложности и многозначности через осознание скрытой «женской» части своей личности: мягкой, отзывчивой, податливой. Но какова цена этого обретения! Разведчик Иоэль Равив отказывается от опасного задания. Да, у него имеется для этого тысяча причин: жена внезапно погибла, у дочери эпилепсия, и вообще он уже не на службе. Но на задание отправляется другой — и не возвращается. Начальник героя, «Патрон», обращающийся к нему с упреками, со своей корпоративной точки зрения, конечно, прав:
Ты и я, товарищ, мы оба дети-беженцы. Те, из кого фашисты делали мыло. Они рисковали своими жизнями, чтобы спасти нас от нацистов. Они тайком перебросили нас сюда. И еще они воевали, были ранены, погибали, чтобы создать для нас Государство Израиль. И подали его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Они подняли нас прямо из грязи. И оказали нам великую честь — поручили работу на самом ответственном участке. В святая святых. Это ведь к чему-то обязывает, не так ли? Но ты, товарищ, когда в тебе возникла нужда, когда тебя позвали, начал считаться: мол, пусть пошлют кого-нибудь другого. Пусть пойдет один из них. Вот и послали. Так что будь добр, отправляйся домой и живи с этим.
Но почему читательское сочувствие вызывает не эта надменная правота (смешанная с несколько унизительной пожизненной благодарностью спасителям — видимо, израильтянам, не познавшим ужасы Холокоста), а неправота и вина бывшего супермена Равива?
И почему мы так охотно понимаем героиню самого, кажется, знаменитого романа Оза — «Мой Михаэль» (1967), которая без всякой внешней мотивации готова совершить (может быть, лишь мысленно готова, но тем не менее) невероятное преступление и предательство — натравить террористов на своего верного, доброго, заботливого мужа?
Или вот рассказ «Пути ветра» (1976). Ветеран сионистского движения Шимшон Шейнбойм, человек безупречной внутренней цельности, о котором соратники говорят: «не ведал он слабости, не споткнулся в неверии», против правил устроил непутевого сына-поэта в парашютные войска. В итоге тот гибнет на глазах родителей, на глазах всего кибуца из-за собственной неловкости и тщеславия, гибнет некрасиво, негероически… Но будь эта смерть иной, ни сам он, ни его слишком правильный отец не вызвали бы у нас сочувствия.
Такова уж писательская оптика Оза. Ему интересен человек в миг неуверенности, смятения, неправоты, неудачи. В общем-то, для писателя XX века это может показаться почти банальным. Но — с учетом истории Израиля — совсем не так уж тривиально.
2
Сионизм — во всех своих вариантах, правом и левом, религиозном и светском — отвергал и стереотипный образ униженного галутного еврея, и альтернативную фигуру рефлексирующего интеллектуала-космополита. Идеал Жаботинского — сильный и рыцарственный «человек на своей земле», живущий в соответствии с собственной «расовой психологией», — вполне укладывался в идеологию «крови и почвы», чуть позже доведенную до чудовищных форм нацизмом. Сионисты-социалисты основывались на ином мировоззрении, но и их идеалом было превращение потомков нервных лавочников в мускулистых, нравственно здоровых солдат и работников без излишних внутренних метаний. Эта ностальгия по здоровью и монументальной простоте проявилась, несомненно, и в литературе на иврите — иногда на пользу ей, иногда во вред. И был момент, когда казалось, что «новый еврей», прямой наследник библейских богатырей, уже возник.
Амосу Озу, родившемуся в 1939 году в Иерусалиме, сыну библиографа и литературоведа Иегуды-Арье (Льва Зуселевича) Клаузнера из Одессы, полагалось быть таким «новым евреем».
— Но что именно они вам делали? — расспрашивал я отца. — Какие издевательства? Что, они вас били? Рвали ваши тетради? И почему вы на них не пожаловались? — Тебе, — ответил отец, — ни за что этого не понять. И хорошо, что тебе не дано это понять. И я рад, хотя и этого ты понять не сможешь. То есть причины, по которой я рад, что ты не можешь понять, как было там. Я решительно не хочу, чтобы ты понял. Ибо в этом нет нужды. Просто в этом уже нет нужды. Поскольку это уже закончилось. Раз и навсегда. То есть здесь этого уже не будет. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Поговорим о твоем альбоме планет? Враги, разумеется, у нас еще есть. И есть войны. И мы в осаде, и у нас немало утрат. Несомненно. Этого отрицать нельзя. Но не преследования. Это — нет! Ни преследований, ни унижений, ни погромов.
Это — цитата из автобиографической «Повести о любви и тьме» (2002). А с другой стороны — вот жалобы разочарованного левого сиониста из романа «Уготован покой…» (1982). По его мнению, возникший в соответствии с идеями Бен-Гуриона со товарищи молодой израильтянин оказался слишком уж примитивным, а исчезающие наследники Маркса и Фрейда, Иегуди Менухина и Яши Хейфеца окружены «крепкотелыми львами, распущенными силачами, тупоголовыми жуликами, этакими обрезанными казаками… этакими воинственными всадниками — детьми пустыни, сошедшими с библейских страниц, татарами, рожденными в лоне Моисеева Закона».
Но имеют ли эти споры смысл? Ведь в итоге ни о каком однотипном «новом еврее» говорить не приходится. Израильское общество — это культурное, языковое, поведенческое разнообразие. Здесь можно вспомнить другое знаменитое произведение Оза, «Черный ящик» (1987), роман в письмах (блестяще оживленная старинная европейская форма). За историей семейно-бытовых отношений, странной почти до гротеска, скрывается едва ли не метафизическое противостояние разных по человеческому типу, этническим корням и социальному опыту героев — например, профессора Александра Гидона и школьного учителя из марокканских евреев Михаэля Сомо. Вот голос последнего:
К чему мне умолять Вас? Земля — в руках нечестивых. Вы — соль земли, вам — и богатство, вам — и мудрость, и правосудие, а мы — прах под ногами вашими. Вы — священники, вы — левиты, те, кому предназначено служить во Храме, а мы — водоносы. Вы — слава Израиля, а мы — толпа, мы — сброд. Вас избрал Он, вас освятил Он как сынов Благодати Божьей, а мы — пасынки. Вам даны и почести, и слава, и прекрасный рост, весь мир поклоняется вам, а нам — и душа низменная, и рост низкий, и разница между нами и арабами — не шире волоса. Возможно, нам следует быть благодарными за выпавшую на нашу долю честь: быть для вас дровосеками, стыдливо подбирать объедки вашей роскошной трапезы, жить в домах, которые вам самим уже надоели, делать за вас работу, которая вам кажется омерзительной, — особенно это относится к строительству Эрец-Исраэль.
От яростных упреков герои с такой стремительностью переходят к взаимному сочувствию и дружелюбию, а от ледяной вежливости — к интимным излияниям, что в сознании невольно возникает тень Достоевского. С чем, впрочем, сам Оз, скорее всего, не согласился бы. В одном из интервью он утверждал:
…у Достоевского персонажи такие, что ты некоторых просто убить готов, пока читаешь. У Толстого я не могу вспомнить ни одного такого героя. У него их нет. Он каждому отдает часть себя и с пониманием, с сочувствием и даже с любовью относится ко всем своим персонажам.
У Оза никого из героев убить не хочется. Это точно.
Итак, Достоевский или Толстой? Оба. А если учесть мастерство, с которым в романе передается чужая эпистолярная речь (за ней стоит все то же этническое и социальное разнообразие), то и Лесков, если угодно. А по лаконизму, с которым раскрывается мир героев, — еще и уже упоминавшийся Чехов. И, между прочим, Гончаров: Надин Гордимер сравнивает Фиму, героя одноименного романа Оза, тонкого и безвольного интеллигента, с Обломовым — хотя можно было бы сравнить его и с Герцогом из романа Беллоу, и, скажем, с персонажами Трифонова или Битова. Связь Оза с русской литературной традицией XIX века очевидна. Но, может быть, в первую очередь она в интересе к опыту слабого, неправого, неуверенного в себе героя. Вот и доктор Гидон, человек близких Озу воззрений, перед лицом смерти отказывается от своего яростного высокомерия и признает правду таких людей, как Сомо. Точнее, их право на собственную правду. И тем самым заново обретает свою.
3
Источником чаемой цельности для сионистов служили воспоминания о библейском прошлом. Но Оз и тут выступает как «деконструктор», разрушитель монолита. Это относится не к форме (по внешним приемам писатель всегда остается в рамках внятного и последовательного реалистического повествования), а к взгляду на мир. В истоках тоже нет места для монументальной цельности. Главный герой ранней повести Оза «На этой недоброй земле» (1966) — судья Израиля Ифтах (в христианской традиции Иеффай), сын израильтянина и аммонитянки, человек, разрывающийся между враждующими народами, между Богом и неверием. Его истинный дом — пустыня, пустота, обитель экзистенциального отчаяния, бесформенности, неопределенности. Он — вождь и полководец, избранный почти ненавистной ему высшей силой, он же — взыскующий правды Иов, и он же — поверженный, изгнанник, носитель все той же священной неправоты. Подобно Аврааму, он приносит в жертву свою единственную и бесконечно любимую дочь — и Всевышний не останавливает его руку.
После шести лет устал Ифтах и возвратился в пустыню. И не приближался к нему ни один человек, потому что какая-то жуть окружала его и не подпускала кочевников. Только сводный брат Ифтаха Азур выходил к нему и оставлял в отдалении воду и хлеб. С Азуром приходили его костлявые собаки. Год провел Ифтах в пещере в земле Тов. Год постигал голоса, которые доносились из ощетинившейся на ночь пустыни. Через год научился Ифтах подражать всем этим голосам и тогда решил про себя: довольно.
Другая «историческая» по формальной жанровой принадлежности повесть Оза, «До самой смерти» (1971), — его «визитная карточка» в истории литературы. И, пожалуй, действительно — вершина его творчества. Герои повести — не евреи, а их недруги, крестоносцы. Евреи появляются лишь в качестве жертв погромов и истязаний, сопровождающих безумное движение рыцарских дружин к востоку. Истязания описаны вполне натуралистически, но интенции автора явно не сводятся к осуждению насилия. Можно увидеть в повести метафору отношений евреев и христианского мира — метафору, которая гораздо содержательней, чем рассуждения на эту тему в «Иуде». Иерусалим — место иррациональных устремлений христианства. Еврей — ненавистный, непобедимый и неуничтожимый «другой», экзистенциальный соперник.
Но этот «другой» присутствует и внутри личности героя, «благородного сеньора» Гийома де Торона, преобразуя и замещая ее:
Но худшая из всех бед — сеньор переменился. Милосердие овладевало им день ото дня все сильнее. Нечто странное, некое сомненье, почти утонченность вдруг проявились в нем. Пробуждаясь от долгого сна — он весьма склонен был подремать и днем, и ночью, — поднимался и приступал к поискам добрых дел. Прежде всего напрочь отбросил все свои старые подозрения и, казалось, гордился той горсткой людей, что идет с ним в Иерусалим. Затем выискивал обстоятельства, при которых ему пришлось бы прощать. Если видел человека опустившегося, то, положив руку ему на плечо, кратко и мягко говорил о мерзости греха. К некоторым из этих несчастных стал обращаться: «Брат мой». Временами, тревожась о своей кобыле Мистраль, поил ее из ладоней и пальцами расчесывал гриву. Однажды собрал всех в разоренной капелле, отслужил как бы мессу, усыновил Клода — Кривое Плечо в согласии с законами церкви и, не останови его Клод, — усыновил бы еще кое-кого из рыцарей.
Происходит непредсказуемое: вакханалия насилия не превращает звероподобного человека в окончательного зверя, а наоборот, очеловечивает его. Человека спасают (или ослабляют — это как посмотреть, но для Оза это почти одно и то же) неуверенность, сомнение, зыбкость цели, страх. Гийому де Торону перерождение оказывается не под силу. Он убивает себя, чтобы избавиться от поселившегося в нем «другого», «еврея».
Но повесть на этом не кончается. Остатки отряда крестоносцев продолжают путь:
Не в дома свои вернуться — обитаемые края давно исторгнуты из сердец их. И не в Иерусалим, ибо он — любовь чистейшая, но отнюдь не место. Идут, отрешаясь от тел своих, идут, очищаясь, в сердцевину колокольного звона, и дальше — в пение ангелов, и еще дальше, оставляя постылую плоть, устремляясь вглубь, белый поток по белому полету, отрешенное намерение, истаявший пар, быть может, покой.
Ослабевшие, нагие и босые, беспомощные, обреченные, отвергнутые миром, ставшие в каком-то смысле двойниками тех, кого они так ненавидят и боятся, рыцари оказываются достойны — не света, но движения к свету, не Иерусалима, но, быть может, покоя.
Этот ранний и лучший Оз, обращающийся к страшному и странному, готовый вступить в диалог с ним, не похож на автора последних романов — все-таки более ограниченного и предсказуемого в своей интеллигентской рефлексии. Но это — один писатель. В его пути — своя цельность. И сегодня из «зоны русского языка» он смотрится примерно так… |
 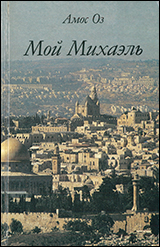 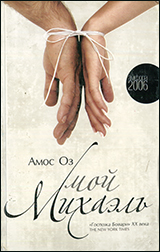      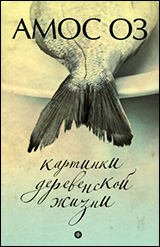  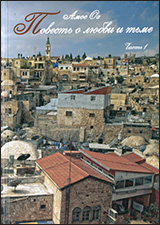  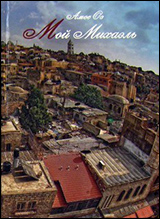  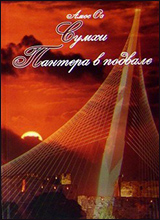  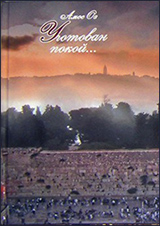 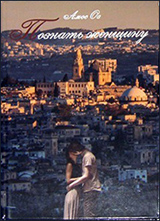 |












