|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 51 / Июнь 2004 Интервью
[Интервью с Семеном Якерсоном] |
|
||||||||
|
Еще в советское время его захватила «одна, но пламенная страсть» — страсть к изучению еврейской книги. Не самое обычное увлечение для ленинградского подростка и не самое удобное для благополучной карьеры в советской академической науке. И тем не менее такая карьера состоялась. Сегодня мы беседуем с Семеном Якерсоном, кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, членом-корреспондентом Еврейского палеографического проекта (Иерусалим), консультантом библиотеки Еврейской теологической семинарии Америки (Нью-Йорк).
— Непосредственно работе с инкунабулами я обучился сам. А ивритом я увлекся в 16 лет. Еврею в те годы поступить в Ленинградский госуниверситет было невозможно — это мне раз и навсегда объяснили. Но особенного негодования это у меня не вызвало, а поскольку я действительно увлекался книгами, то с удовольствием поступил в Институт культуры. В прямом смысле институт дал мне мало, но опосредованно я получил очень много: во-первых, учеба в институте не мешала заниматься ивритом, а во-вторых, институт дал начальную подготовку, связанную с профессиональным изучением книги. Поэтому я до последнего времени, в основном, занимался составлением научных описаний коллекций, каталогизацией еврейских фондов. Это может прозвучать несколько нескромно, но я считаю себя в этой области единственным профессионалом в странах бывшего СССР. К сожалению, каталоги отдельных еврейских собраний, появившиеся в России в последнее время, не выдерживают никакой критики… У меня есть и второе образование: после окончания Института культуры и службы в армии, когда я уже работал в Библиотеке Академии наук, я разными правдами и неправдами сумел добиться права окончить экстерном Восточный факультет ЛГУ — не полный курс, а только курсы семитских языков, древнееврейского и арамейского, и еврейской средневековой литературы. Я получил не диплом, а справку о сдаче экзаменов по данным дисциплинам в объеме университетских курсов. Так что у меня есть и семитологическое образование, и книговедческое. Вот уже больше 20 лет я совмещаю в своей работе эти дисциплины.
— Кто были ваши учителя в университете?
— По большому счету, я полный самоучка, что имеет свои плюсы и минусы. Когда я был гораздо моложе, то удивлял многих западных коллег глубиной понимания каких-то одних вещей при полном незнании других. Настоящего систематического гебраистического образования у меня не было и нет до сих пор. Я хочу назвать двух людей, которые были моими учителями в области древнееврейского языка и истории еврейской книги. Это покойный Лев Ефимович Вильскер, сотрудник отдела литературы стран Азии и Африки Публичной библиотеки. Он отвечал за еврейские фонды. И его жена, Гита Менделевна Глускина, преподаватель древнееврейского языка и средневековой еврейской литературы на Восточном факультете. Я учился в ее группе, сдавал ей экзамены. Сейчас она живет в Израиле. С Вильскером я разговаривал только на иврите. Гита Менделевна на иврите не говорила, хотя знала его блестяще, для нее это был академический язык.
— В 1972 году, в 16 лет, у вас возник интерес к еврейству. Это продуманный выбор жизненного пути или импульсивное решение?
— В 16 лет, если помните, в СССР выдавали паспорта... Я учился в самой простой, «плебейской» школе, там нас было несколько евреев. И вот я получил паспорт, где было написано, что я — еврей. Выбора у меня не было, а у многих приятелей — был. Кто записывался русским, кто все-таки евреем. За каждым таким решением стояла определенная позиция. Меня поразила эта ситуация…
У нас была абсолютно ассимилированная семья, отец был по образованию историком, по убеждениям — коммунистом, очень гордился тем, что, живя в Ленинграде с детства, никогда не был здесь ни в синагоге, ни в церкви. Родом он был из местечка, из черты оседлости. Мама родилась в Ленинграде, она была по специальности японистом и далека от всего еврейского, дальше, чем папа. Единственное, что еще как-то связывало нашу семью с еврейством, — это отдаленные разговоры о погибших родственниках. Эта тема меня болезненно волновала в 16 лет. Я интересовался, расспрашивал родителей — на эту тему разговаривать они не боялись. Отец был инвалид войны, боевой офицер, вступивший в партию на фронте. В заявлении он написал, что поскольку фашисты убивают евреев и коммунистов, то он, еврей, хочет стать еще и коммунистом. Разумеется, его убедили переписать заявление, но мотивация его была мне понятна. Я часто не спал ночами, думал о том, что люди погибли не потому, что они хорошие или плохие, а по метке от рождения. И вдруг, когда я получил паспорт и мне объяснили, что я все равно не поступлю в университет, даже если стану членом КПСС или пойду, как Путин, в КГБ, то тема Холокоста и моя личная история, хотя прямой связи между ними не было, как-то связались у меня в голове. И тогда я решительно захотел что-нибудь про евреев узнать.
Возможностей сначала не было никаких. Я стал читать и выискивать любые слова, хоть как-то связанные с еврейством. Например, я читал Шолом-Алейхема, «Мальчика Мотла». В эпизоде на рынке старик, чтобы жандарм не понял, говорит Мотлу не на идише, а на древнееврейском: «Вырви руку, ноги на плечи и — драла». Я стал завидовать этому жандарму: «Надо же, идиш-то он понимал». Я пошел к своему папе, коммунисту, и попросил хоть что-нибудь рассказать о детстве, о местечке, о еврейском образе жизни. Отец, во-первых, посоветовал мне обратиться к Большой Советской Энциклопедии, кладезю знаний. Там я действительно нашел еврейский алфавит и сразу же выучил его. А во-вторых, папа, совершенно несистематически, начал говорить о том, что сохранила память: какие-то еврейские слова, которые я записывал русскими буквами, не различая, древнееврейский ли это язык или же идиш…
Вскоре мне стал доступен первый учебник иврита — «Элеф миллим». Я сблизился с людьми диссидентского направления, с теми, кто возглавлял движение «отказников» в Ленинграде. Но уже тогда я понял, что наши пути только до определенной точки идут вместе, а потом они расходятся. Во-первых, я — человек не религиозный, а во-вторых, не разделяю идей сионизма. Повторяю, я хотел добиться права быть евреем на своей родине, выискивал легальные пути существования. Хотя не был даже комсомольцем, но без труда поступил в Институт культуры. Там работал мой отец, и не просто работал, а в тот момент был еще и парторгом института. Я был такой восторженный молодой человек, все время ходил со словариком и учил иврит, больше ничем особо я там не занимался. Я сообразил, что КГБ против иврита как такового ничего не имеет, Комитет был против «собраний». Значит, не надо ходить в ульпаны, надо учиться самому. И я учился сам, был таким странным отшельником.
— Преследовал вас КГБ во время учебы в институте?
— Всю мою жизнь до перестройки, как мне кажется, я находился в поле зрения Комитета. Несколько раз со мной беседовали, более или менее серьезно. Были у этих бесед и последствия. После армии я вел подпольный ульпан для начинающих учителей иврита. К тому же, я принял активное участие в судьбе моего друга — отказника Бориса Календарева, который в то время сел за нежелание служить в Советской Армии. Я ездил к нему на зону, поддерживал его престарелых родителей. Это закончилось тем, что на два года я напрочь выпал из академической жизни, работал эти годы грузчиком, в той же Академии наук, правда...
В Институте культуры серьезная неприятность произошла уже в конце учебы, в последний семестр. Меня вдруг арестовали, причем арестовали картинно — так, как они это любили делать: приехали за мной на черной «Волге». А я в тот день не пошел на первую «пару», а пошел к девушке. И они сидели и ждали, а когда я появился к третьей «паре», то меня сняли прямо с лекции, попросили срочно зайти в деканат. Я почувствовал, что происходит что-то неладное, было особое напряжение вокруг, и ребята прятали глаза. В деканате сидели два офицера в штатском. Одного из них я, кстати, часто встречал в институте и до этого. Возможно, велась предварительная разработка, а может быть, это был институтский куратор от Комитета. Не знаю. Они забрали мои вещи, вывели меня, и мы прошли через весь институт в таком порядке: один впереди, другой сзади, я — посередине. Сели в «Волгу», доехали до какого-то дома у метро «Чернышевская», где у них была «рабочая» квартира, видимо, для работы с молодежью. Там до сих пор окна зарешечены, как и тогда…
Ситуация была такая: у меня был одногруппник-еврей, который активно занимался «антисоветской деятельностью». Сионизм его не интересовал. Однако сотрудники, забрав его, решили взять и меня, чтобы наши дела объединить и сколотить из нас «сионистско-диссидентскую организацию». Я был очень молодой, ничего не боялся совершенно, готов был сесть, если надо. И потому вел себя на допросе не вызывающе, но твердо. Им очень было важно получить от меня какую-либо подпись. Хотя бы чтоб я подписал бумагу, в которой заявляю, что отказываюсь подписывать протокол. Я, кажется, даже эту бумагу не подписал. Конечно, орали, пугали, потом менялись местами, разговаривали вежливо, а в общем-то, морили голодом — допрос длился около суток. Наконец, под утро меня отпустили. Думается, я был довольно необычный для них тип: они не знали, в какую графу меня «вписать». Вроде открытой антисоветской деятельностью не занимаюсь, а просто держусь свободно — это очень их раздражало… Особенно тяжело переживал эту ситуацию отец — его тоже вызывали. Он был убежденный коммунист, совершенно не разделявший мои взгляды, но очень порядочный человек. В КГБ вел себя исключительно достойно, отстаивал мои интересы, хотя его пугали, намекали, что сгноят меня в лагерях. Единственное, что он мне сказал тогда: «Учти, если тебя выгонят, то я из института уволюсь».
Что было потом? Потом было закрытое собрание партийного и комсомольского актива института, на котором присутствовал и представитель КГБ. Нас разбирали отдельно. Моего одногруппника исключили из комсомола за антисоветскую деятельность. Соответственно, затем комитет комсомола ходатайствовал перед ректоратом об исключении его из института, что незамедлительно и было удовлетворено. Когда разбирали меня, начался форменный «цирк», ибо обвинения были смехотворными. «Переписывался с заграницей?» — я говорю: «Да. Разве это запрещено советским законом? Я переписывался официально, письма относил на почту и получал их тоже на почте». «Письма были на иврите?» — я отвечаю: «Да. Раз они приходили, значит, с точки зрения нашего закона это не запрещено». «Встречался с иностранцами?» — «Да, но все эти иностранцы имели официальные визы; никто из них шпионом и лазутчиком не был». Я все время «нажимал» на то, что все мои поступки не запрещены законом, а мне возражали: мы, мол, судим не по закону, а по комсомольской совести. Сейчас я думаю, что не обошлось без помощи папиных друзей. Тогдашний парторг была отцовской однокурсницей по университету. Выступая, она говорила о моей хорошей работе в стройотрядах, что-то еще. Представитель КГБ заявил, что на следствии я вел себя вызывающе, отказывался подписать протокол. Я спрашиваю: «У меня есть законное право не подписывать протокол? Есть. Значит, я опять никакого закона не нарушал». Старшие друзья морально меня подготовили к этому собранию, давали читать самиздатские брошюры с подробными рекомендациями, как надо вести себя в подобных случаях. Чекисты, конечно, это чувствовали — перед ними стоял совсем мальчик. Был, впрочем, один мерзкий момент. Они говорят: «Если вы считаете себя таким правильным, то как, по-вашему, вашего товарища справедливо исключили из комсомола?» Это, конечно, был вопрос с подковыркой. Я сказал: «Если он признался в том, что действительно распространял антисоветские письма и не согласен с существующим строем, то комсомольцем быть не может. Я считаю, что он должен продолжать учиться, но из комсомола его, вероятно, исключили правильно». Взрослые товарищи сразу ухватились за этот ответ как за некое доказательство моей лояльности, быстренько вынесли мне строгий выговор за поведение, позорящее высокое звание советского студента, но дали доучиться. Когда собрание закончилось, в приватной беседе со мной сотрудник органов сказал: «Мы тебя не посадим, но отправим служить в армию, в такое место, что ты сможешь это засчитывать себе за срок».
— Расскажите о вашей службе в армии.
— И в армии я добивался права «быть евреем». Туда я пришел с еврейско-русским словарем Шапиро, и у меня его не отобрали, так как это было московское издание. Надо сказать, что, будучи студентом, я, кроме иврита, увлекался еще и карате. Такой своеобразный еврейский набор. Каратист я был никудышный, но какое-то здоровье, безусловно, накачал за время этих занятий. Когда меня призывали в армию, то на медицинской комиссии новобранцев крутили на центрифуге. А я, надо признаться, пришел в военкомат после большой пьянки (все-таки в армию уходил!) и бессонной ночи, с похмелья все во мне как-то забродило, может быть поэтому после центрифуги я спокойно мог ходить прямо. Меня сразу призвали в элитные войска — морской десант. Я сказал, что не умею плавать, однако мне возразили, что это не имеет значения. Военком начал меня поздравлять, и тут я заметил среди членов призывной комиссии невзрачного серенького человечка, перебирающего какие-то бумаги. Он подошел к военкому и положил перед ним некую справку. Затем мне предложили выйти. Через пять минут, когда я вернулся, лица у всех членов комиссии были какими-то «опрокинутыми». Мне заявили, что раз я не умею плавать, то, действительно, в морской десант не гожусь, и направили в танковые войска.
Вначале была учебная рота. Я сразу же заявил, что моя будущая деятельность «на гражданке» будет связана с «контактами с иностранцами». Прошу учесть, добавил я, что мой родной язык — еврейский, и я буду переписываться по-еврейски. Тут же прибежал человек из первого отдела, пожал мне руку, сказал, что, во-первых, такой сознательности он еще не встречал, а во‑вторых, чтобы из казармы я никуда не выходил и что скоро меня куда-нибудь переведут. И вот все солдаты проходят военную подготовку, сбивают ноги в кровь, а я лежу в казарме, ничего не делаю, учу свой иврит; завтрак, обед и ужин мне приносят из столовой. Мне стало неудобно перед ребятами, да и сами солдаты уже начинали меня ненавидеть. Так прошло две недели. Наконец, снова появился тот же офицер, еще раз поблагодарил меня за сознательность и сказал, что коли я здесь уже оказался, придется здесь и служить… Наступил день присяги. Приехала моя мама, жутко волновавшаяся, как это я со своим еврейством уживаюсь в армии. На КПП к ней вышел прапорщик с багровым, пропитым лицом. Мама испугалась. А он говорит солдату: «А, это к Якерсону, позови того, кто справа налево читает». И она увидела, что в его словах нет никакого оттенка неприязни... Вскоре после присяги построили роту, пришел командир, и началось его знакомство с личным составом. Дошла очередь до меня. Я докладываю: «Якерсон, Семен Мордухович, 1956 года рождения, из Ленинграда, образование высшее, окончил Институт культуры, национальность — еврей». Следует приказ: «Пятнадцать шагов вперед». Я отчеканил 15 шагов, командир подходит ко мне и шепотом говорит: «Я — сам татарин, все понимаю, эмигрировать собираешься?» Я отвечаю: «Куда эмигрировать, я сюда служить пришел, ноги сапогами в кровь стерты». Следует новый приказ: «Десять шагов вперед». Ушли мы с ним куда-то в поле. Он снова спрашивает: «Я все понимаю, я — сам татарин, эмигрировать не собираешься?» Так мы славно поговорили, и он ко мне за время службы в «учебке», в общем-то, особо не придирался...
— Одна из популярных тем газетной хроники в раннеперестроечные годы — скандал вокруг библиотеки любавичского ребе Йосефа-Ицхока Шнеерсона. Вы были вовлечены в эти события. Расскажите об этом.
— Да, я одно время был официальным независимым научным экспертом на судебном процессе по этому делу. Привлекли меня любавичские хасиды, конкретнее — раввин московской синагоги на Большой Бронной Изя Коган, «цадик из Ленинграда», так его сегодня называют, который когда-то был моим учеником. Я учил ивриту его самого, его очаровательную жену и его старших детей. Как эксперт, я писал письмо Горбачеву, неоднократно ездил в Москву, вел переговоры с представителями Российской Государственной библиотеки (РГБ), с «любавичами» и с представителями суда. Дело это неоднозначное. Моя позиция, сформировавшаяся в процессе знакомства с этой историей, «любавичей», очевидно, не устраивала, поэтому они со мной распрощались, и больше по этому вопросу мы не контактируем.
Ситуация такая: это, действительно, частная библиотека любавичского ребе, который оставил ее в Москве перед высылкой в Ригу в 1927 году. Библиотека была передана на хранение в Румянцевский музей. Никакого декрета о национализации конкретно этого собрания не существовало. Потом библиотека влилась в основные фонды Румянцевского музея, ныне это Российская Государственная библиотека (РГБ). Прошло много лет, и в начале перестройки встал вопрос о ее возвращении хасидам. Я как научный эксперт предложил сначала выделить эту библиотеку из общего книжного фонда РГБ, но «любавичи» не хотели долгой и кропотливой работы, они хотели «ковать железо пока горячо» и быстро все получить, что, в общем, по-человечески вполне понятно. А РГБ не хотела ничего отдавать, во всяком случае, такой была позиция тогдашнего заведующего рукописным отделом. У меня с ним сложились непростые отношения, но он был, прежде всего, хранителем фондов, профессионалом. А для любого профессионала главное — не отдавать рукописи, неважно кому и зачем. Он понимал, что может возникнуть прецедент: отдашь одному — потребуют другие. Рукописные фонды РГБ сформированы во многом из книг, изъятых у духовных учреждений: церквей, мечетей, караимских кенасс, синагог… Я предложил создать комиссию: представители хабада, представители РГБ и я как независимый эксперт. «Любавичей» это не устроило. Не было также согласованного списка книг. Хасиды называли совсем неимоверные цифры — от 10 до 30 тысяч томов. В то же время известно, что книги ребе были перевезены на нескольких подводах, кажется, на трех. То есть речь может идти о двух-трех тысячах томов, не больше. Когда на суде представителя «любавичей» спросили, как, например, 15 тысяч книг может уместиться на трех подводах, то он ответил: «Чудом»...
Я человек абсолютно не религиозный, но однажды на себе это «любавичское чудо» испытал. Был момент в ходе процесса, когда появилось решение суда о передаче книг хасидам. Надо было ехать в Химки, где хранились фонды, это очень далеко от центра Москвы. Садимся в старый «жигуленок» Когана, а в машине горит лампочка «Бензина нет». Время — начало перестройки, в Москве не то что бензина — водки нельзя было достать. Изя говорит: «Поедем так». Я спрашиваю: «Как ты это себе представляешь?» Отвечает: «Ну, на брохе поедем, все нормально будет». Я думаю, что за броха такая, может, он другую машину хочет взять. Потом я сообразил, что он имеет в виду благословение. И мы, действительно, на этом благословении съездили в Химки, там ничего не добились, вернулись обратно в центр, а лампочка все сигнализировала, что бензина нет…
Я немного отвлекся. Библиотеку эту «любавичам», насколько я знаю, так и не вернули. Есть еще одна спорная библиотека, гораздо более важная для науки. Это библиотека барона Гинцбурга, которая тоже хранится в Москве и тоже в РГБ. Когда барон умер в 1910 году, баронесса Матильда Гинцбург начала вести переговоры о продаже книг с Еврейской теологической семинарией в Нью-Йорке. Дело было почти доведено до конца, но началась Первая мировая война и все сорвалось. Потом баронесса продала библиотеку российским сионистам, которые намеревались отправить ее в Иерусалим, в Еврейскую национальную библиотеку, но этому помешала революция. После революции книги были конфискованы и остались в Советской России. Но с юридической точки зрения сделка с продажей книг была проведена безупречно, и баронесса получила деньги. Еще со времен Голды Меир израильские дипломаты вели переговоры с СССР об этом собрании. Но вот началась перестройка, и мудрый директор Национальной библиотеки Израиля профессор Малахи Бейт-Арье тогда сказал: «Я не буду добиваться возвращения книг. Я буду добиваться, чтобы все рукописи были микрофильмированы и стали доступны ученым. Совершенно не важно, где они физически находятся». То же самое я говорил хасидам по поводу их библиотеки: «Надо сделать отдельный читальный зал, выставить эти книги, создать каталог. И почему книги должны переезжать в Америку? Любавичские хасиды есть и в России, книги — российское достояние. Пусть они будут всем доступны, а в Америку можно послать микрофильмы». Кажется, сегодня РГБ и хасиды пришли к подобному варианту, но деталей я не знаю. Я давно не слежу за развитием этой ситуации.
— Еще в советское время вам удалось издать каталоги еврейских инкунабулов. Как это стало возможным?
— Как сказали бы хасиды, это произошло чудом… В начале 1980-х мною овладела идея: необходимо каталогизировать отечественные фонды старопечатной еврейской книги. Ибо с момента выхода каталога эти книги станут людям доступны, а главное, они не пропадут. Начал я с инкунабулов, то есть книг, изданных до 1 января 1501 года, в общем-то, случайно. Их в петербургских хранилищах было обозримо малое количество, и это были объективно очень ценные экземпляры. По наивности мне казалось, что я смогу эту работу осилить. Теперь, после 20 лет работы в этой области, я понимаю, как это все сложно и какая у меня оказалась непростая специализация — гебраист-инкунабуловед. Оглядываясь назад, я вижу — это была моя активная, нахрапистая, везучая молодая судьба, что удалось еще в те годы что-то издать.
В 1985 году я подготовил каталог еврейских инкунабулов из собрания Института востоковедения. Работал практически без справочников, руководствуясь собственными соображениями, интуицией. Книга вышла на серой бумаге, была набрана на машинке — и получила громадный резонанс, вышла масса рецензий западных специалистов. Вместе с рецензиями мне стали присылать литературу. Познакомившись со справочной литературой и другими каталогами, я понял, что мой каталог надо переделывать. И я стал готовить описание всех еврейских инкунабулов, имеющихся в собраниях России. Эта вторая книга, «Еврейские инкунабулы», уже включала описание коллекций трех библиотек: Института востоковедения и Публичной библиотеки в Петербурге и Ленинской библиотеки в Москве. Трудился я над этим каталогом с огромным энтузиазмом, все делал сам: набирал текст, вносил корректуру, бегал в типографию... Надо сказать, что за этот второй каталог мне и сегодня не стыдно. В процессе работы над ним я выработал такой комбинированный принцип описания памятников (кстати, я, в основном, придерживаюсь его и сегодня), который мог бы дать подробную информацию об издании, исчерпывающие сведения об особенностях конкретного «российского» экземпляра или фрагмента, отражал степень учтенности данного издания в инкунабуловедческой литературе и погружал исследователя или просто читателя-любителя в уникальный мир средневековья. Иными словами, я пытался создать как бы миниэнциклопедию по еврейской средневековой книге для оторванных от еврейских корней и источников информации советских читателей. Поэтому в каталог были включены и краткие биографические справки об авторах, и краткие характеристики описываемых произведений, и, что особенно важно, переводы на русский язык колофонов (отрывков текста, написанных непосредственными изготовителями книги и фиксирующих момент завершения работы). Часто это очень интересные документально-художественные тексты, наполненные скрытыми цитатами и парафразами из Библии. Над переводами этих текстов, многие из которых написаны в стихах, я корпел два года.
Кстати, уж коль я высказался в начале нашего разговора об издающихся сегодня каталогах, то могу добавить, что в прошлом году РГБ издала еще раз описание своей коллекции еврейских инкунабулов под названием «Каталог еврейских инкунабул (sic! — С.Я.) из собрания РГБ». Эта книга — образец не только профессиональной безграмотности, но и отсутствия какого-либо представления о научной этике. В ней не только перепутана история становления еврейского книгопечатания, а в крайне беспомощной ивритской части (поразительный текст этой книги продублирован на английском и иврите) перевраны все цитаты и искажено написание большинства имен, в ней не только нет ни одной библиографической ссылки, скажем, на описание тех же экземпляров в моем каталоге или в сводном «Инвентаре инкунабулов Всесоюзной библиотеки им. В.И.Ленина» Н.П.Киселева (М., 1939), но и совершенно спокойно цитируются отрывки из колофонов в моем переводе без какой-либо ссылки. Авторы этого опуса, очевидно, не знают, что средневековье с его отсутствием понятия плагиата даже в России уже закончилось…
Но это так, лирическое отступление. Когда началась перестройка и еврейская тема стала «актуальной», то выяснилось, что официальной советской науке кроме двух моих книг и предъявить-то нечего. И я вдруг незаслуженно стал такой важной персоной. Это было очень смешно. У меня еще и ученой степени-то не было, а меня стали представлять западным делегациям, просить эти книги, раздаривать их... На материале этих двух каталогов я написал диссертацию. Это была, как мне говорили, первая в СССР диссертация по истории еврейской книги. В Советском Союзе три «еврейские» научные дисциплины были в принципе разрешены (точнее, не запрещены): семитология, библеистика и кумрановедение. Диссертаций же по еврейской медиевистике не было в течение долгих лет. Сначала мою диссертацию никто не хотел принимать для защиты, но потом все-таки приняли, по иронии судьбы — в Институте культуры. И тот же ректор, который меня выгонял (он был председателем Ученого совета), даже вспомнил давнюю историю и сказал: «Хорошо, что мы тебя тогда не выгнали». Диссертация называлась «Еврейские инкунабулы на семитских языках, древнееврейском и арамейском, и их место в европейской книжной культуре XV века».
Подытоживая, я могу сказать, что вся моя жизнь до перестройки — это, безусловно, борьба с режимом за право оставаться свободным человеком, оставаться евреем, за право заниматься наукой. Выиграть эту борьбу было бы невозможно без активной поддержки, которую я ощущал в достаточно широких академических кругах. Сейчас нет возможности рассказать про это подробно, но за меня именно боролись, помогая мне — рисковали, портили собственную карьеру. Это были настоящие русские интеллигенты, и мне до сих пор кажется, что я у них в долгу. Может быть, это одна из причин, по которым я не уехал.
После перестройки меня стали активно приглашать работать на Западе. Я жил несколько лет с перерывами в Нью-Йорке, много бывал в Иерусалиме. На сегодняшний день главная работа моей жизни, и этим я занимаюсь уже 11 лет, — это подготовка научного описания самой крупной коллекции еврейских инкунабулов, хранящейся в библиотеке Еврейской теологической семинарии Америки в Нью-Йорке. Это грандиозная коллекция, и об этой работе я мечтал всю жизнь. Коллекция очень сложная, формировалась она в течение всей первой половины XX века из различных источников. Ее отличительной чертой является большое количество фрагментов — от нескольких листов до буквально нескольких строчек текста. Многие фрагменты попали в собрание из знаменитой Каирской генизы, все они вводятся в научный оборот впервые. «Опознание» этих фрагментов — дело кропотливое, иногда приходилось неделями заниматься каким-нибудь одним кусочком текста размером приблизительно в 5 см. Характеристика каждого издания сопровождается подробным анализом глосс и маргиналий (т. е. рукописных заметок), прочтением всех владельческих записей и т. д. Пять лет я непосредственно делал это описание, и вот уже шесть лет, как мы готовим его к печати. Книга издается в Израиле, коллекция — в Нью-Йорке, я — в Петербурге, сами понимаете, как все это непросто. Это сложнейшая работа, два тома, больше полутора тысяч страниц. Сейчас выходит в свет первый том, надеюсь, что уже через год этот труд будет напечатан полностью. Еще я работал в одной из крупнейших частных еврейских библиотек Америки, фонде Манфреда Леманна в Нью-Йорке. Леманн, в память о покойном сыне, задумал издать серию каталогов. Один том был посвящен редким печатным изданиям. Этот том я тоже пять лет готовил. Он вышел в свет под названием «Ohel Hayim» («Шатер жизни»), в нем описаны инкунабулы и издания XVI века.
— Расскажите о ваших книгах, изданных недавно в России.
— В 2003 году у меня вышли две книги, каждая, по-своему, очень важна для меня. Первая — альбом «Избранные жемчужины». История этого проекта такова. Мне всегда хотелось рассказать широкой аудитории, интересующейся иудаикой, об уникальных еврейских собраниях нашего города. И так получилось, что мне позвонил раввин Санкт-Петербургской хоральной синагоги и спросил: «Шимон, как ты думаешь, что еврейская община может сделать к 300-летию?» И я предложил, что напишу книгу о разных еврейских коллекциях Петербурга. Книга должна быть на двух языках, для гостей города и для россиян, с большим введением, чтобы читатели узнали, как эти шедевры в наш город попали. Времени было в обрез, оставалось всего несколько месяцев до юбилея, а надо было отобрать материалы, написать, получить право на публикацию. Но, несмотря на все трудности, удалось уложиться в срок и к юбилею города альбом вышел.
Вторая книга — это итог курсов по истории еврейской средневековой книги и еврейской палеографии, которые я читал в различных университетах: в Российском Государственном Гуманитарном университете в Москве, в Еврейской теологической семинарии Америки в Нью-Йорке, в Петербургском институте иудаики и в Европейском университете в Петербурге. Монография называется «Еврейская средневековая книга: Кодикологические, палеографические и книговедческие аспекты». Это моя самая большая текстовая работа. Я хотел написать ее именно по-русски — в первую очередь, для студента, изучающего иудаику в России, а также, надеюсь, и для широкого русскоязычного читателя. Моей идеей было подготовить студента к работе с еврейской средневековой книгой. Ведь средневековая книга разговаривает с читателем не на нашем языке: в ней нет титульного листа, в ней присутствуют исторические даты и ситуации, которые были в головах у писцов или первопечатников в разных местах и в разные века. Исследование охватывает период с X по XV век, т. е. от первых сохранившихся датированных еврейских рукописей и до возникновения книгопечатания. В этой публикации я попытался обобщить опыт своей 20-летней практической работы. В книге сочетаются два стиля: научно-популярный и строго академический. На обсуждении меня критиковали за журналистский стиль, а мне кажется, что именно такое сочетание конструктивно. Возможно, я перестал относиться к себе слишком серьезно, но уже не могу писать о себе «мы». Я стараюсь писать без искусственного наукообразия, беседую с читателем, иногда очень доверительно и, может быть, неакадемично. В этой работе есть много личных маленьких открытий в области истории книги, в частности — инкунабулов. Монография вышла в издательстве РГГУ в Москве, и я очень благодарен Еврейской теологической семинарии Америки, которая финансировала этот проект.
— Ваша научная работа связана с Москвой, Нью-Йорком, Иерусалимом, но вы по-прежнему живете в городе на Неве…
— В начале перестройки была организована международная группа по кодикологическому описанию самых ранних датированных еврейских рукописей во всех библиотеках мира. Это была программа трех академий наук: израильской, французской и нашей, тогда еще — Академии наук СССР. Последнюю представлял я один. В результате было издано трехтомное описание всех еврейских датированных рукописей X — первой половины XII веков, независимо от места их хранения, — «Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes». Так вот, после окончания работы выяснилось, что из шести самых ранних датированных еврейских кодексов, которые сохранились вообще в библиотеках мира, все шесть находятся в Российской Национальной библиотеке в Петербурге. Среди них самая ранняя еврейская рукопись, дата которой не вызывает сомнений, — это кодекс Пророков 916 года с вавилонской пунктуацией. Среди них также самое раннее датированное Пятикнижие 929 года и самая древняя датированная рукопись полной Еврейской Библии 1008–1013 годов...
Мы все по-прежнему живем в городе на Неве…
Беседовал Лев Айзенштат |
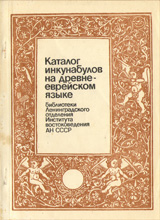     |



