|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 56 / Апрель 2005 Интервью
[Интервью с Александром Мелиховым] |
|
||||||||
|
В 2004 году петербургскому прозаику Александру Мотелевичу Мелихову, автору романов «Исповедь еврея», «Нам целый мир чужбина», «Любовь к отеческим гробам», «Чума», была вручена Премия Гоголя по прозе. В этом же году была вновь переиздана «Исповедь еврея». Это и послужило отправной точкой интервью, которое писатель дал журналу «Народ Книги в мире книг».
— Внутренний посыл был, наверное, вот в чем. Я воспитывался в русской среде, русской матерью. Мой еврейский папа был единственным евреем во всем рабочем поселке и к тому же — общим любимцем. И тем не менее некий образ еврея все время витал среди русских: если отпилили полено криво, то отпилили «по-еврейски», если кто-то был хитроват, ему говорили: «что ты, как жид» и т. д. И хотя единственный еврей, повторяю, был всеми любим, но еврей вообще, как символ, воспринимался людьми отчетливо негативно. Меня это очень задевало, и я всеми силами старался доказать, что я — такой же, как все. Впоследствии, размышляя над этим, я понял, что я стремился быть русским, но не в лучших проявлениях русского национального характера, а в худших. В советское время, когда я делал карьеру ученого и писателя, постоянно сталкиваясь с проявлениями антисемитизма, я обольщал себя надеждой, что это — родовые черты советской власти. Мол, виноваты чиновники, кадровики, редакторы, а народ меня принимает. Я считал, что национальная рознь — продукт взаимного натравливания горсткой негодяев, управлявших страной, а народы сами по себе — хороши. Но тут случилась перестройка, и разрешили говорить на еврейскую тему. Советская власть была разрушена, и вдруг, вместо того, чтобы антисемитизму исчезнуть, он неожиданно выплеснулся на улицы с удесятеренной силой и приобрел такие вульгарные формы, какие в советское время и не снились. Советская власть в ее одряхлевшие годы оказалась верхом корректности в еврейском вопросе: слова «еврей» вообще старались избегать, сама проблема не обсуждалась, антисемитская пропаганда прикрывалась термином «сионизм». И вдруг не чиновные, а самые простые, беспартийные люди собираются в толпы, выкрикивают проклятья, распространяют самую злобную клевету. Тогда это навело меня на мрачные мысли, что антисемитизм — продукт не власти, а народной энергии. Власть, напротив, пытается придать этой энергии относительно цивилизованные формы. Я понял, что в социальных низах антисемитизм существует в гораздо более мощных, фанатичных и мифологизированных проявлениях. Последним толчком к написанию «Исповеди еврея» послужило прочтение книги Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера», романа о судьбе затравленного мальчика-полукровки, который и плавать не умеет, и в морду дать не может, и в глаза прямо взглянуть. И уже непонятно, отчего он так слаб и робок: оттого ли, что он еврей, или оттого, что просто человечески ничтожен. Мне захотелось вычленить фактор еврейства в рафинированном, что ли, виде, устраняя все обстоятельства, смазывающие картину. Я решил сделать своего героя красавцем в глазуновском вкусе, атлетом со славянской внешностью, храбрецом, щедрым, не дураком выпить, воплощающим в себе все добродетели, о которых русские могут только мечтать. И вот на этом образце русского человека где-то стоит маленькая метка: еврей, полукровка. Никто его не бьет, не травит, иногда только дают понять, что он не такой, как все, чужой. Почти со всеми у него прекрасные отношения, но вот этой черной метки достаточно, чтобы превратить «двухсотпроцентного» русского в стопроцентного еврея, не склонного к энтузиазму, не склонного бросаться в объятья, достаточно скептичного человека. Мой герой прошел примерно тот же путь, что и я, но то, что в моей жизни было эпизодическим и нечетким, в романе становится доминирующим, достигая, надеюсь, символического значения. Мой герой ставит перед собой противоречивую задачу: «Быть лучше всех, чтобы стать таким, как все». И каждый раз, когда он совершает героический поступок во имя Единства, это оказывается либо жестокостью, либо глупостью. Окончательно ощутив себя настоящим евреем, герой приходит к выводу, что народ всегда объединяется «воодушевляющим враньем». Единство строится на лжи, глупости и жестокости. А все талантливое, гуманное, оригинальное рождается из отщепенства. И все же, исполнив гимн отщепенству, герой понимает, что такая ноша ему не по силам: счастье можно обрести только в толпе, когда на футболе вместе со всеми кричишь: «Гол!»
— В аннотации на вашу книгу «Лимбус Пресс» пишет: «Роман вызвал шум и ярость после публикации в “Новом мире”». Спустя 10 лет вы согласны с таким утверждением?
— Было множество рецензий, разговоров, передач. Роман оскорбил какую-то часть правоверных евреев, которые полагали, что герою надо было обрести вторую родину в Израиле, а не примазываться к русским, что я недостаточно глубоко «разоблачил» героя как русского угодника. В израильском консульстве один из функционеров мне откровенно признался: «Слишком ваш герой любит Россию, надо ему было сразу уезжать в Израиль». Среди русских, причем вполне порядочных людей, также нашлись недовольные: это те, кто вообще не хочет слышать о русско-еврейской проблематике. Я часто слышал от русских такие возражения: «Ну, зачем ты на этом зацикливаешься? Ну, унижали героя, а кого не унижали? Кого-то дразнят “губастый”, а кого-то “еврей”. Дело не в еврействе, а в интеллигентности». А в антисемитских газетенках рецензенты потирали руки: «Мелихов показал истинного еврея, верить которому все равно нельзя, пусть он прикидывается своим в доску, рубахой-парнем, и может выпить ведро водки». Время показало, что эти споры продолжаются, роман по-прежнему актуален, он обрел второе дыхание. Сейчас в «Литературной газете» проходит дискуссия на подобную тему. Я специально для этой дискуссии написал статью, где говорю, что государству нужна национальная греза, которая не была бы опасна для самой России и для окружающих, не требовала бы деспотизма внутри и агрессии снаружи.
— О двухтомнике «Двести лет вместе» уже столько писали, что возникла некая усталость от этих разговоров. Александр Исаевич задал работу сотням публицистов, вы тоже опубликовали две пространные рецензии на труд Солженицына. И все-таки, вкратце, как вы считаете, эта книга позитивна или негативна для русско-еврейского спора?
— Я бы сформулировал так. Для непредвзятого человека, который сразу же не оскорбляется ошибками или даже сознательными подтасовками Солженицына, а, прежде всего, изучает текст — эта книга познавательна, так как она показывает нас, евреев, в зеркале русских обид. Такими нас видят русские националисты, старающиеся быть объективными. Но если говорить о реальных русско-еврейских отношениях, а не о точке зрения интеллектуалов, способных сохранять рассудительность, то книга Солженицына сыграла роль негативную, потому что простые люди живут, в основном, эмоциями. Простого человека, не желающего жить в мире открытых вопросов, а желающего всегда получить точный и единственный ответ, нельзя вовлекать в обсуждение трагических проблем, где заведомо не бывает правых. Столкнувшись с трагической проблемой, простой человек хочет ее немедленно закрыть, а это можно сделать только фашистскими методами, уничтожив оппонента. Отношения между русскими и евреями после выхода в свет книги «Двести лет вместе» — ухудшились. Масса евреев обиделась, и масса русских тоже. Простой человек ищет не истины, а самооправдания.
— Что вы понимаете под словами «простой человек»?
— Простым человеком я называю человека, который придерживается простой модели социального бытия: в социальном мире не должно быть противоречий, в случае любого конфликта прав кто-то один, а неправого следует принудить к повиновению или уничтожить. То есть это тот, кто не придерживается трагической картины реальности, которой придерживаюсь я. В этой модели мира все ценности противоречивы, а будущее непредсказуемо. Когда обыватель занимается повседневными делами — его простота сравнительно безопасна, но когда он выходит в большой мир, где правых и виноватых нет и где каждое зло — гипертрофия частного добра, этот мир становится для него невыносим и он хочет вернуть реальность к иллюзорной простоте, сделать реальность такой же понятной, как его бытовая ситуация... Нужно научиться жить в мире конфликтов, которые так никогда и не разрешаются. Склонность закрывать конфликты — это фашизм. Фашизм — бунт простоты против ненужной и непонятной сложности социального бытия. Простой человек — это потенциальный фашист.
— Вашу прозу отличает рациональный, аналитический склад письма. Сейчас в литературе мода на мистику, фантазию, писатели прикрываются плащом «магического реализма». Вы сознательно исключаете иррациональное в тексте?
— Если под иррациональным понимать написание того, чего я сам не понимаю, то у меня не хватает бесстыдства на такие фокусы. Если бы я был мистиком, как Малевич, я бы мог предположить, что в мой текст какие-то Высшие Силы вкладывают эзотерические, тайные смыслы. Но у меня ни наглости не хватает, ни веры в то, что я являюсь рупором незримого мира. А вот некую сказочность в духе Андерсена я бы с удовольствием постарался ввести в повествование и, может быть, в дальнейшем это сделаю. Так «Гадкий утенок» — книга для детей и для взрослых, потому что в этом тексте заложен символ огромной глубины и трогательности. Подобные вещи я бы с удовольствием сочинял. Пока не получается.
— Вы придумали, создали такой замечательный термин «фантом» и часто им пользуетесь. Как вы думаете, увлечение современного читателя книгами Толкиена или Паоло Коэльо не является ли примером фантомного видения мира?
— Я думаю, что человека как личность создала фантазия, а не труд. Способность человека относиться к плодам своей фантазии даже более серьезно, чем к реальным предметам, — это сделало человека человеком. И он перестанет им быть, когда эту способность утратит.
— Об этом говорил Эйнштейн: «Воображение важнее знания, ибо знание всегда ограничено».
— Я думаю, что знания как такового просто не существует. Все, что наше сознание может творить, — это грезы. Есть грезы для прогнозирования явлений, для предсказаний — их мы называем наукой. Есть грезы, предназначенные для того, чтобы забыть знание, основанное на грезах первого типа, ибо оно слишком ужасно. Перед человеком стоят две одинаково важные задачи: узнать правду и забыть правду. Когда я в «Исповеди еврея» писал, что «нацию создает общий запас воодушевляющего вранья», в этом был эпатаж, но я отдал эти слова оскорбленному герою, отторгнутому от национального единства. В романе «Нам целый мир чужбина» термин «фантом» несет уже позитивный смысл. Герой романа приходит к выводу, что человек может любить лишь собственные фантомы. История человечества — есть история борьбы, становления и падения фантомов. Я считаю, что рациональное видение мира — невозможно.
— Но вы это весьма рационально доказываете. В этом парадокс ваших текстов.
— Действительно, я стараюсь максимально рационально доказывать иррациональность нашего мышления, сознания, вообще социальной жизни. Какое-то время научная картина мира претендовала быть окончательной, решающей. Я не хочу сказать, что социальная жизнь слишком сложна для науки. Она не сложна, она вполне поддается научным прогнозам и научному анализу. Единственный недостаток такой картины мира — в ней невозможно жить. Она слишком ужасна. Так возникает бунт против рационализма; он идет по всем направлениям: у интеллектуалов он проявляется в создании мистических, утонченных философских систем, у людей попроще этот бунт актуализируется в тоталитарных сектах, в магии и астрологии. Герой романа «Нам целый мир чужбина» говорит о мастурбационной культуре, культуре, направленной на самоуслаждение, а не на служение. Эта культура находит себя в текстах Толкиена, в литературе жанра «фэнтези», в укромных уголках отдохновения, где бы человек мог на несколько часов забыться, а потом пойти на работу.
— Примерно так размышлял Паскаль: человеку свойственно отвлекаться от главных вопросов — о Боге и смерти.
— Для современного человека это не просто отвлечение, это забвение этих вопросов. Паскаль имел силы так неотступно думать о последних вопросах бытия только потому, что имел в запасе главный козырь: существование Бога. В минуты меланхолии мир открывается человеку ужасным и скучным, и мысль о том, что этот мир таков и есть, — эта мысль для неверующего человека невыносима. Ее принять и выдержать могут либо какие-то невероятные герои, в существование которых я не верю, либо люди, утешающиеся всевозможными суррогатами религий. А «фэнтези» — это суррогаты религий.
— Агностик не может обладать полнотой истины, ибо для него нет Абсолюта. Если я вас правильно понял, вы утверждаете трагическую сложность бытия, трагическую хотя бы потому, что мы — смертны.
— В этом мире не только невозможно быть бессмертным, в нем нельзя даже быть правым, нельзя утешиться, что я — хороший, а мои враги — плохие.
— Даже во время войны?
— Во время войны человек превращается в монофункциональное животное, он не способен откликаться на чувства другого. Но строгое размышление приводит нас к утверждению, что и твои враги защищают свои святыни, они также бывают бескорыстны, храбры и жертвенны. Они живут своими грезами. И нет никакой инстанции, которая могла бы назвать их грезы плохими, а наши — хорошими. Человек вынужден принимать решения самостоятельно, брать на себя всю ответственность. И это чувство, что добро и зло, прекрасное и безобразное только продукты работы твоей собственной души, что тебе не к чему прильнуть и положиться на кого-то, — тяжелая ноша человеческого удела. Критериев добра и зла в мире не существует.
— А как же Моисеев Декалог иудеев и Нагорная проповедь христиан?
— Даже для тех, кто принимает эти тексты как священные и в них не сомневается, все же интерпретация этих текстов возложена на них самих. Из истории мы же знаем, что вокруг этих священных текстов образуются немедленно школы, которые толкуют их совершенно по-разному, ненавидят друг друга сильнее, чем язычников. Кроме того, священные тексты отчетливо различают зло и добро. Мне же кажется, что в мире борются не добро со злом, а тысячи разновидностей добра. Выбирая свое добро, мы вынуждены попирать десяток других представлений о добре.
— Сейчас мы спустимся с философских высот на землю. Вы работаете заместителем главного редактора журнала «Нева». Какова концепция журнала, будут ли в нем публикации по национальному вопросу?
— Что касается поэзии и прозы, то, как вы понимаете, их улучшить редактор не может. Дело в авторах. Что же касается публицистики, то этому жанру я уделяю много внимания и времени. Тут можно заказывать авторам материалы на ту или другую тему. Я постоянно привлекаю авторов из научного, философского, социологического мира. Не обходим мы и национальную проблематику, в том числе и еврейскую. Печатались на еврейскую тему мои статьи, были тексты израильских публицистов. Я горжусь публикацией статьи московского культуролога Игоря Яковенко о проблемах ассимиляции: почему одни народы живут тысячелетия, а другие при первом же испытании рассыпаются. Удалось напечатать фрагменты из тюремного дневника Эдуарда Кузнецова с моим предисловием. По‑моему — это сильнейший материал. Я хочу, чтобы еврейская тема постоянно звучала в нашем журнале, звучала интеллигентно. Вообще, положение с «толстыми» журналами в стране неблагополучное. Оставшиеся читатели этих журналов «подсели» на чтение еще при советской власти. Среди читателей «Невы», «Звезды» или «Нового мира» мало молодежи. О концепции журнала я отвечу так: я бы хотел проявлять, ну, не то что умеренность, но всемирную отзывчивость, то есть понимание всех позиций. Вот вам пример: если какой-либо интеллигентный пенсионер обижен сегодняшней жизнью и говорит, что раньше было лучше, не нужно клеймить его как прислужника коммунистов, ответственного за 1937 год, за «дело врачей», — нужно понять его. Если хочешь, чтобы человек тебя выслушал, надо, прежде всего, выслушать его самого, надо, чтобы он почувствовал, что его боль, его страдания близки, понятны и уважаемы. И только после этого ему можно возразить: «но вместе с тем…» И мы постоянно печатаем материалы, добавляя «вместе с тем». Мы говорим, что либерализм, при всех его издержках, это вечная мечта о свободе, о человеческом достоинстве, подчеркиваем неоспоримые экономические успехи либеральных систем, стараемся доказать, что другого пути у России, по-видимому, не было и т. д. Чтобы бороться с ностальгическими настроениями, надо продемонстрировать их носителям, что их понимают, им сочувствуют, но не до конца соглашаются, предлагают принять другой взгляд на вещи.
— Что вы можете сказать о литературной генерации шестидесятников? Некоторые критики считают их героями-диссидентами, другие полагают, что шестидесятники создали свой либеральный фантом. С вашей точки зрения, что такое был феномен «шестидесятничества»?
— Я думаю, что слабостью шестидесятников была узость их мировоззренческого небосвода. Они могли спорить, кто был лучше — Ленин или Сталин, самые «продвинутые» добавляли Бухарина, но они не выходили из парадигмы, заданной большевиками. Все разговоры вертелись в круге, заданном историей КПСС: Сталин, Ленин, Керенский, Милюков, Троцкий. Трагизм мироздания неизмеримо превосходит этот выбор между конкретными политическими фигурами. Большинство шестидесятников все время выбирало между ленинскими принципами и нормами XX съезда или искало «социализм с человеческим лицом». Если выбраться из этого помещения, в которое заперли нас большевики, помещения с заданным набором фигур, и вспомнить, что были Платон, Будда, Моисей, что есть, в конце концов, смерть, есть несправедливость, которая всегда существовала, то перед человеком открывается совершенно иной духовный горизонт. У Валерия Попова есть рассказ, где герой, попав на корабле в шторм, выходит на палубу и говорит: «А мы-то думали, что самое страшное — это обком». Мне кажется, что в эту формулу укладывается позиция шестидесятников. Нельзя провести всю жизнь в тесном зале заседаний, в полемике с негодяями — существует круг вечных проблем. В Вечность шестидесятники никогда не заглядывали, а сейчас нужно смотреть в Вечность.
— Заглянем тогда не в Вечность, а в более обжитое пространство. Ваш сын Павел Мейлахс — тоже писатель, писатель совершенно иного склада, чем вы. Какие между вами творческие отношения? Вы обсуждаете его произведения? Он советуется с вами?
— Как правило, на уровне замысла мы обсуждаем наши тексты. Какие-то куски читает сын, и я ему читаю свои отрывки. Для меня он — очень важный читатель. Я никогда не отдаю свои произведения в печать, не обсудив с ним радикально определенные моменты. Он поступает так же. Последний роман «Пророк» он вынашивал долго без меня, видимо, опасаясь, что я как-то повлияю на него своим рационализмом. В этом романе он дал волю иррациональному началу, фантазии. Может быть, он думал, что мое умение точно интерпретировать текст обеднит его замысел.
— Ваш последний роман «Чума» посвящен проблеме наркомании. Вторая часть романа меня потрясла клинической достоверностью изображения болезни. Это ваше богатое воображение, или вы посещали наркологические клиники?
— Конечно, все так не придумаешь. В жизни я сам нередко сталкивался с наркозависимыми, приходилось даже хоронить людей, погибших от наркотиков. Был соседский мальчишка, которого я знал с детского сада; он умер от передозировки. Метаморфозы происходили на моих глазах: из милейшего одаренного мальчика он превратился в вора. Во время работы над романом я посещал наркологические службы, участвовал в работе службы помощи, профилактики и поддержки наркозависимых. Эту службу (она ныне, к сожалению, распалась) организовал замечательный нарколог Вячеслав Львович Ревзин, с которым я продолжаю дружить. Кроме того, я работал волонтером в клинике скорой помощи, где помогают выжившим самоубийцам. Личных наблюдений было много. Потом, во время работы над романом, конечно, я пытался дотянуть все увиденное до уровня символа. В одном из эпизодов романа герой, после ломки, на берегу Средиземного моря говорит: «Играть не во что стало». Здесь у меня перекличка с романом «Нам целый мир чужбина», где герой также приходит к выводу, что для человека, отказавшегося от иллюзий, жизнь становится нестерпимой.
— В 11-м номере журнала «Знамя» рецензент не то одобряет вас, не то упрекает в антигуманной направленности романа, цитируя высказывание героя, что помогать надо жизнеспособным. Вы согласны с мнением рецензента?
— Меня упрекали не раз, особенно люди, склонные к христианству, что я оправдываю убийство и сыноубийство. Я сыноубийства не оправдываю, я наблюдаю, как человек звереет, ожесточается и становится способным на что угодно. Это — нехорошо. Что я могу предложить? Есть ли у меня средство сделать человека всегда терпимым, здравомыслящим, не впадающим в отчаяние и безумие? У меня нет таких средств. Я хотел показать героя в состоянии суженого сознания, состоянии ожесточения, которое приводит к таким убийственным формам отчаяния.
— Вы назвали роман «Чума» сознательно, чтобы вызвать у читателя ассоциации с книгой Камю?
— Совершенно сознательно. Я об этом уже говорил критику Елене Невзглядовой в интервью журналу «Звезда». Моя книга полемична по отношению к Камю, ибо у Камю ужас жизни приходит из внешнего мира человека, а у меня — из внутреннего. И я считаю, что внутренний мир человека гораздо опаснее, потому что — неустраним.
— Заведомо банальный вопрос: ваши творческие планы?
— Я только что отнес в «Новый мир» новую повесть «В долине блаженных». Где-то к осени она должна выйти. Там я снова, уже через десять лет, возвращаюсь к еврейской теме, которую, вроде, считал для себя исчерпанной. Все происходит в наши дни, герой — беспечный, обаятельный бродяга, полукровка, как это у меня бывает, который не видит серьезного повода для размышлений о своей национальности. Он полагает, что все неприятности, которые антисемиты устраивают евреям, — это мелочи, и они вполне преодолимы. А вот чего по-настоящему не хватает евреям, в чем им отказано — это возможность говорить о себе во всеуслышание красивыми и высокими словами. Это он называет подлинным национальным угнетением. Потому что сегодня такая интонация требует экзальтации, надо впадать в полемику с кем-то, чрезмерную агрессию, постоянно ожидая, что все это будет высмеяно или опровергнуто. Этот высокий градус говорения на еврейскую тему возможен только в собственной стране, в собственном изолированном кругу. Любимая девушка героя уезжает в Израиль, становится ортодоксальной еврейкой. Когда герой приезжает к ней в гости и встречает во всем уверенного, ни в чем не колеблющегося человека, то это вызывает в нем отвращение. Вывод героя таков: «Не наше дело быть правыми. Правый еврей — это сухая вода, мокрая пустыня. Наше дело — всегда сомневаться, всех понимать, быть Вечными жидами. Удел еврея — быть вечно неправым». Можно сказать, что это новый виток в моих размышлениях на еврейскую тему.
— Расскажите немного о себе.
— Я окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1969 году. Туда я поступил в 1964-м, без проблем, получив на вступительных экзаменах две пятерки, по математике письменной и математике устной. А на экзамене по физике меня пытались «зарезать», там уже, видимо, работали антисемитские инструкции. Но я был дважды призером Всесибирской олимпиады по физике, был прекрасно подготовлен и выдержал этот экзамен. Учился я без четверок по математическим дисциплинам, проблемы начались с распределением в аспирантуру, шел 1968 год… На распределение приехала вербовщица из знаменитого атомного центра «Арзамас-16», она ухватилась за меня, обещала сразу квартиру, большую зарплату, самостоятельную тематику. Мне это понравилось, я согласился, но бдительный первый отдел не пропустил полукровку, в паспорте которого было написано «русский». Так я остался без работы, и хотя выпускников нашего факультета представители НИИ рвали на части, в Питере меня никуда не брали. Я уже ходил в прохудившихся башмаках, разгружал какие-то мешки, пока мой заведующий кафедрой не разыскал меня и не взял на свой факультет прикладной математики.
Писать я начал в 1974 году, точнее, начал обдумывать свою первую вещь — «Весы для добра». Написал я ее в 1977 году, но опубликовать ее тогда было, разумеется, невозможно, она вышла в свет лишь через много лет. Основные мои произведения стали печатать после перестройки. Весной 2004 года я получил Премию Гоголя, которую учредили Союз писателей и Правительство Санкт-Петербурга. Она присуждается первый раз в России, идея премии принадлежит Валерию Попову. Меня выдвинул на эту премию ПЕН-клуб.
В юности моим любимым писателем был Лев Толстой, я его просто боготворил, может быть, он мне и навредил. Я считал, что главное в прозе — это достоверность, точность, ясность слога. Сейчас же я думаю, что фантазия, тайна также необычайно важны для прозаического текста. В настоящее время я больше ценю Андерсена, в чьей прозе сочетаются необыкновенная простота с удивительной глубиной, как, например, в «Снежной королеве». Как говорил Пастернак, меня тянет к «неслыханной простоте». Недавно я выступал в университете на тему «Война наций и состязание грез» и ведущий, Георгий Медведев, высказался так: «Александр Мотелевич, вы слишком умны для писателя». На что я возразил, что это ненадолго, склеротизация уже начинается, и я скоро войду в норму. Я, кажется, и начинаю входить в норму.
Беседовал Лев Айзенштат |
     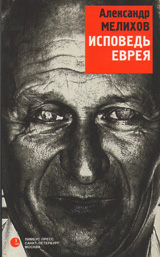 |



