|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 62 / Апрель 2006 Интервью
[Интервью с Велвлом Черниным] |
|
||||||||
|
Такова уж специфика нашего критико-библиографического журнала: для того чтобы напечатать в нем статью, нужна, в качестве информационного повода, книга — пусть небольшая, но на русском языке и, само собой, причастная чему-то еврейскому. Вот и получилось так, что хотя интервью с пишущим на идише поэтом Велвлом Черниным и было записано уже давно, но ждало своего часа, ждало выхода в свет первого сборника его стихотворений в русских переводах.
Читающие на идише постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой. Литература на этом языке лишь в незначительной степени переведена на русский, впрочем также как и на другие языки. И рассказывая о достоинствах того или иного текста или автора, то и дело приходится просить собеседника верить тебе на слово. Теперь одним неудобством стало меньше. Благодаря поэту и переводчику Валерию Слуцкому, бывшему петербуржцу, а ныне жителю Кдумим в Самарии, у нас есть небольшая, но изящная и репрезентативная книга «русского» Чернина. И пускай профессиональная ревность нашептывает, что ты сам выбрал бы (может быть!) другие стихотворения и перевел бы их (может быть!) иначе, но дело сделано и, слава Богу, сделано талантливо и на совесть.
Эта книжка — больше чем еще один лирический сборник, она представляет собой первый опыт презентации на русском языке новейшей, сегодняшней поэзии на идише и, в этом смысле, отвечает за нее всю перед русским читателем. Так же и сам ее автор, Велвл Чернин, «больше чем поэт»; он, хочет того или не хочет, — один из самых ярких представителей культурного процесса на идише последних 25 лет в России и Израиле. Он одновременно и участник новейшей еврейской истории, и — как литератор — ее пристальный наблюдатель, исследователь. Да и сама позиция еврейского поэта в современном мире — далеко не позиция «птички Божьей». Хочешь-не хочешь, она провоцирует рефлексию на тему настоящего и будущего идиша и литературы на нем.
Заканчивая отвечать на вопросы, Велвл сказал: «Однако текст есть». И вправду есть, теперь и по-русски. А интервью, может быть, создаст и необходимый контекст.
— В далекие времена, когда я работал в «Советиш геймланд», меня мучили такие вопросы: что такое еврейское искусство, что такое еврейская музыка, существуют ли они в Советском Союзе? Это было в середине 1980-х годов. Я брал тогда интервью у всех руководителей немногочисленных еврейских театральных коллективов страны — профессиональных и самодеятельных. А потом интервьюировал деятелей изобразительного искусства, например, художника Герша Ингера, иллюстратора книг Шолом-Алейхема. Интервьюировал и научных работников — например, вашего земляка, специалиста по еврейским рукописям и старопечатным книгам Семена Якерсона; хранителя еврейского отдела библиотеки им. Ленина Лейба Даговича. Все это публиковалось в «Советиш геймланд», а потом вышло в приложении к журналу небольшой, довольно забавной брошюркой под названием «Диалоги о еврейской культуре в СССР». Позже, в Израиле, я долго работал журналистом — уже на русском языке, в «Новостях недели», других газетах. Там я брал интервью у самых разных людей, включая премьер-министра. У Ицхака Шамира я, например, спрашивал о его отношении к идишу.
— И что же он сказал?
— Во-первых, Шамир классно говорил на идише, и больше всего он любил Ицхока-Лейбуша Переца. Во-вторых, у него была определенная идеология по поводу идиша и культуры на нем: не надо это раздувать, но и ничего страшного в этом нет. Он рассказал, в частности, что ходил на все премьеры израильского идишского театра «Идишпил».
Я также опубликовал интервью с покойным Рехавамом Зееви (Ганди), лидером партии «Моледет». Он был уроженцем Иерусалима и хорошо говорил на идише. Мне запомнились его слова о том, что он всегда мечтал прочитать Шолом-Алейхема в оригинале, но, как он сказал: «Обер ди але алефн ун ди аинс хобн мир авекгехаргет» («Все эти алефы и аины меня убили»). Я его спросил: «Так что, вы не читали до сих пор?» Читать он не читал, но купил записи и слушал…
Так что я много брал интервью. Не только об идише, разумеется, но и о политике.
— Ну вот, теперь можно перейти и к разговору о тебе. Ты уже зрелый, состоявшийся поэт, автор нескольких книг, и вопрос с языком творчества давно решен. Но вот когда-то, в Москве, почему ты вдруг решил писать на идише? Учился ведь ты, как и все, в русской школе. Где была точка старта?
— Точка старта… Прежде всего, это было уже давно, и Москва — не Ленинград. Московские евреи всегда были менее ассимилированы. И когда я был юношей, пожилые люди в Москве в реальности говорили между собой на идише. Первоначально, как вспоминается, я хотел самореализоваться именно на своем языке, а в качестве своего языка воспринимал идиш. Меня мучило, что наш язык и наша культура обречены на умирание. Может быть, под влиянием Маяковского в стиле: «Умри мой стих, умри как рядовой», мне хотелось сделать что-то, чтобы он протянул еще сколько-нибудь.
— Идишу ты научился в семье?
— Да. Я в детстве говорил на корявом бытовом языке. Буковки я выучил сам — для этого взял журнал «Советиш геймланд» и стал сравнивать фрагменты, где с одной стороны было написано по-русски, а с другой — по-еврейски. Потом я нашел статью покойного языковеда Эли Марковича Фальковича в энциклопедии «Языки народов СССР». Письменным же буквам меня в какой-то момент взял и научил дедушка.
— Что было сначала — язык или литературное творчество? Ты сначала попробовал писать, неважно на каком языке, а потом занялся идишем, или наоборот?
— Я — сын учительницы русского языка и литературы, но никогда не помышлял о том, что буду поэтом. Мне просто хотелось хорошо знать еврейский язык, я выучился читать, я читал, понимая далеко не всё в литературном идише. Первоначально мне и в голову не приходило, что я могу вообще что-то срифмовать на этом языке. Потом я стал пробовать — безусловно, это были не стихи. Не то чтобы мне было стыдно это вспоминать, но, слава Богу, я не пробовал это напечатать… Однажды, когда я уже писал и даже печатался, Вергелис, Арон Алтерович, мне сказал следующее: «С’из до кунст, ун с’из до кунц», то есть «Есть искусство, и есть трюкачество». И добавил: «То, что ты делаешь, — это “кунц”». Вероятно, был этап, когда на фоне некоторых людей, которые тогда назывались еврейскими поэтами, и это мое творчество могло быть названо какой-то там поэзией. Но я, на самом деле, очень много внимания уделял в то время именно языковому трюкачеству. Это был период, когда люди говорили: «Вот, такой молодой — и он пишет на идише», не касаясь сути того, что было написано. Хотя неприятности вокруг того, что я писал, возникли достаточно быстро — по содержанию это было далеко от настроений советской еврейской литературы.
— То есть занятия языком привели к творчеству, а не желание писать нашло подходящую литературную форму?
— Да, скорее так.
— Всегда есть момент, когда пишущий молодой человек решает, что пора кому-то что-то показывать…
— Сначала я показывал что-то кому-то из старших родственников. Потом пошел учиться на еврейское отделение в Литинституте — усилиями Вергелиса оно было открыто в начале 1980-х. А потом дал стихотворение в стенгазету редакции «Советиш геймланд». Там было даже что-то антисоветское, что потом не разрешили печатать в самом журнале. Стихотворение «Зоопарк», из которого как-то так получалось, что советские евреи сидят в клетках.
— В те годы большинство тех, кого волновало собственное еврейство, обращались к ивриту. А ты выбрал идиш. Ты был один, или был какой-то кружок?
— Пожалуй, в этом качестве я стоял один «как во поле береза». Но было немало людей, которые говорили на идише, читали на идише, писали на идише, даже среди сионистов.
— Ну да, уроженцы Бессарабии, например.
— Да, уроженцев Москвы, моих ровесников, я тогда таких не встречал. В еврейской группе Литинститута (первого набора) я был единственным москвичом. Меня ужасно раздражало, что все переходили на этот бессарабский диалект: «гекимен», «фин», «дус». Я говорил: «Говорите по-еврейски!» Но в итоге я научился их хорошо понимать…
Главной проблемой было то, что люди моего поколения, в чем-то идеологически и эстетически мне близкие, не понимали языка, на котором я писал. Люди же, понимавшие язык, принадлежали к другой эстетике и к другому поколению, более напуганному. Я был тогда ребенком, я младше даже Белоусова. Я уже не застал поэтов не только первой, но и второй волны. Последние из них уехали в Израиль или умерли до того, как я появился в «Советиш геймланд».
Яркая личность, действительно оказавшая на меня большое влияние, мужественный, несгибаемый, интеллигентный еврей, человек большой культуры, у которого я имел честь учиться и который мне помог овладеть и литературным языком, и чувством национального достоинства, — это был Эли Маркович Фалькович. Я приходил к нему домой. Я был его единственным студентом… Теплым словом хочется вспомнить и писательницу Ривку Рубину. Старая и больная, она учила нас в Литинституте — вела спецкурс по творчеству Ицхока-Лейбуша Переца.
Но, по большому счету, то, что я видел, это были еще хорошо сохранившиеся осколки советской еврейской культуры сталинистского периода. Естественно, эстетически между нами был разрыв. До тех пор пока я не получил, правдами и неправдами, доступа к тому, что издавалось на идише за пределами Советского Союза или в дореволюционный период, я даже не представлял себе, что такое на самом деле еврейская литература. Так что, может быть, я часто тогда изобретал велосипед.
— И все-таки есть вещи поколенческие. Люди, в 1970–80-х годах решившие «стать евреями», реализовывали себя через иврит…
— Я тоже.
— Но идиш был раньше?
— Я сейчас объясню. Мы, советские евреи, находились в двойственном положении. Израиль создал четко очерченную ивритскую, сионистскую модель еврейской идентификации и культуры. В массовом сознании евреи были слабыми, запуганными, а Израиль представлялся мужественным, при помощи силы отстаивающим еврейские интересы. Естественно, хотелось равняться на Израиль, хотелось владеть языком свободных евреев. Как в песне: «Дорт ахин вел их гейн, ин майн ланд, вос из фрай» («Туда я пойду, в мою свободную страну»).
С другой стороны, в отличие от того, что происходит сейчас, цепь традиции тогда еще не прервалась полностью. У меня была статья в «Советиш геймланд», где я писал, что «вытесняемый жизнью, идиш отступает в глубину наших сердец». Но он еще звучал — живой язык, к которому я был эмоционально привязан. На нем говорили не придуманные еврейские богатыри в стиле «Моих прославленных братьев» Говарда Фаста, а настоящие евреи, с которыми я себя полностью идентифицировал. И у меня не было потребности отрыва.
Таких людей, как я, было мало, но своеобразный «сионистский идишизм» вполне существовал в еврейском подполье 1980-х. Хотя приходилось сталкиваться и с враждебным отношением к идишу, порой — со стороны людей, которые идиш знали. Даже на уровне родного языка.
И еще одна деталь. Настоящая литература на иврите мне в то время была недоступна. Максимум на что я был способен — прочитать на «иврит кала» упрощенные рассказы Эфраима Кишона, в то время как на идише я имел возможность убедиться, что имею дело с серьезной, подлинной литературой. Иврит был скорее символом. Так мне кажется сегодня.
— Молодой человек, решивший попробовать свои силы в литературе, тем более человек темпераментный (а на тихоню ты не похож), несомненно, понимал, что обратившись к идишу, он сразу радикально сузил свою аудиторию. Как ты решал для себя это противоречие?
— Вообще, как человек я весьма экстравертен, но что касается поэзии — я бы про себя этого не сказал. Не то чтобы я не испытывал потребности кому-нибудь прочитать свои стихи. Но меня всегда пугал пример поэтов, которые в какой-то момент становятся назойливыми. Мне крайне не хотелось «доставать» людей, которые должны слушать меня из вежливости… Что-то я читал дома у бабушки и дедушки. Но, естественно, при моих формальных поисках и экспериментах, попытках писать верлибр, найти себе там аудиторию я не мог.
Некоторое подобие среды я имел, когда работал шабашником в Литве — а приезжал я туда довольно часто. Там было немало моих сверстников, которые достаточно хорошо владели языком. Там можно было собрать кружок молодежи, человек двадцать-тридцать, которые приходили послушать еврейскую поэзию. Все всё понимали, некоторые спорили, что-то такое по поводу услышанного говорили. Это побудило меня в то время писать шуточные стихи, которые, естественно, легче воспринимались на слух.
Общался я там и с людьми старшего поколения. Например, приходил домой к Григорию Кановичу, сидел у него на кухне, читал ему свои стихи. Слышать отзывы такого мэтра было для меня чрезвычайно важно.
Конечно, это не было в таком масштабе, как могло бы быть по-русски. Но если ты молодой поэт (неважно, на каком языке ты пишешь), то на каком-то этапе чувствуешь себя неуверенно, чувствуешь себя лишенным среды. Думаю, те, кто сейчас пишет по‑русски, тоже сталкивались с этой проблемой.
— Ну, теперь-то ты мэтр.
— Неужели я мэтр? Нет, скорее первый парень на деревне, а в деревне один дом… Трагедия состоит в том, что нет уже больше тех молодежных «тусовок» в Вильнюсе и Каунасе, и те мэтры, которые слушали меня… Очень многих, к сожалению, уже нет с нами. В этом смысле все стало гораздо печальней.
— Ты теперь поэт, на плечах которого, просто по факту возраста, находится весь груз литературы на идише.
— Я думаю, есть еще несколько граждан, которые вместе со мной что-то такое несут. Но, в общем, это тот возраст, когда пора успешно самореализовываться.
— С этим ты справился. Ты известный поэт, переводчик, критик, литературовед, но вот в чем никогда «не был замечен» — это художественная проза.
— Опытов было много. Я пытался писать прозу и на идише, и на иврите, и по-русски. Я напечатал на идише два рассказа. Маленьких. В журнале «Ди пэн», выходившем в 1990-е годы в Оксфорде. Но тут же столкнулся с проблемой…
Дело вот в чем. Стремление к аутентичной речи ставит перед прозаиком нелегкий выбор. Если ты используешь прямую речь, ты должен либо создать искусственную, якобы идишскую речь, когда реальный прототип говорит на другом языке, либо уходить в те времена, когда на идише говорили реально, либо — в «нигде и никогда». Фельзенбаум очень часто так и пишет: не существенно, не понятно — это восемнадцатый век или двадцатый.
Есть еще один путь, мне лично он нравится больше, — использовать глоссы (иноязычные вставки). «Ун эр хот гезогт» (и он сказал), двоеточие, а дальше — на том языке, который «он» и использовал бы на самом деле. Это очень свойственно еврейской прозе. Я напечатал об этом статью в «Вестнике еврейского университета»…
Собственно, моя проблема состояла в том, что редактор «Ди пэн», мой друг и ровесник Дов-Бер Керлер, думал иначе. И когда я в диалог между поселенцами и солдатами вставил цитаты на современном иврите, то он, будучи, также как и я, израильтянином, все это перевел на идиш. И, на мой взгляд, нанес тяжелый ущерб рассказу. Это не работает. Поселенцы с солдатами на идише не разговаривают…
Я люблю писать эссе. Но пока у меня ощущение, что я не дорос писать прозу. Очень хочу надеяться, что доживу до тех пор, когда дорасту.
— Роман пока «за горизонтом»?
— Да. Но вообще, для того, чтобы дорасти до романа, а не до растянутого до размеров романа рассказа, надо быть серьезным писателем. Таковым я себя в качестве прозаика еще не ощущаю. Иногда пробую, но быстро оставляю эти попытки. Какие-то куски, недописанные и никогда не опубликованные, у меня в компьютере есть.
— Как ты ощущаешь свое место в современной литературе, не только еврейской? Что из литературы, еврейской и нееврейской, на тебя больше всего повлияло? Тем более что ты читаешь на множестве языков…
— Ну, не на таком уж большом. И потом — я не ощущаю весь предыдущий мир как этап к возникновению Велвла Чернина, а последующий — как то, что возникнет из него.
— Все-таки, что тебе ближе в литературе?
— Безусловно, я воспитан, прежде всего, на русской литературе, а вот фольклор для меня всегда был ближе украинский — в силу семейных обстоятельств. В небольшой степени и еврейский, но не израильский. Из профессиональных еврейских литераторов первым, кто оказал на меня влияние, был Ошер Шварцман, которого я читал в русских переводах. Он был из тех, кто подвиг меня научиться читать на идише.
Вот, что я больше всего ценю в поэзии — сейчас, такой, какой я есть: Ошер Шварцман, Ури-Цви Гринберг, Давид Гофштейн. И Лейб Найдус, совсем не похожий на них. Мне очень нравятся «инзихисты», но еще больше — Мани Лейб. Из советских еврейских поэтов мне больше всего нравится Шике Дриз. Это то, что я читаю для удовольствия. Очень люблю Ицика Мангера, особенно его прозу и эссе. Из прозаиков классического периода люблю читать Менделе Мойхер-Сфорима, но желательно на иврите, а не на идише.
Еврейская литература вели́ка потому, что она веками связана с первоисточником. Я имею в виду Тору, Танах, Мишну, средневековую еврейскую поэзию и так далее. Попытка оторваться от первоисточника приводит в никуда, превращает литературу в маразм. Как говорил Дубнов, еврейская литература не одноязычна. Попытка создать голый идишизм или голый гебраизм обречена на провал, хотя, кажется, именно это сейчас и происходит.
Из тех, кто сейчас пишет на идише, больше всего я ценю Михаила Фельзенбаума, его прозу. Из тех, кто пишет на иврите, последнее время больше всего мне полюбился Эдгар Керет. Когда читаешь его в оригинале, прожив в Израиле пятнадцать лет, испытываешь огромное эстетическое наслаждение. Его хочется читать: он какой-то очень израильский и, одновременно, какой-то очень наш.
Что я вижу после себя? Что будет дальше? Есть несколько литераторов, пишущих на идише, которые существенно моложе меня. И у меня нет ни малейшего ощущения, что я тот, кому суждено погасить свет. Более того, это поколение, которое моложе меня, не будет состоять только из идишистов, занимающихся борьбой за сохранение идиша, потому что это «endangered language»[1]. Хотя большинство из них, конечно же, находится сейчас на уровне языковых экспериментов.
— Ты видишь в них те черты, которые были у тебя в молодости?
— У многих тот недостаток, что, может быть, им не стоит все печатать. Я вот не все печатал. Но есть люди, про которых я могу однозначно сказать, что я хочу их читать. И что они вырастут. Прежде всего, это поэты Шолом Бергер в Нью-Йорке и Исроэл Некрасов здесь, в Петербурге. Мне нравится также Борис Котлерман, который пишет прозу, в основном, на идише. Мне кажется, что он станет интересней, чем он есть сейчас. Есть еще несколько очень интересных литераторов. Во всяком случае, есть люди, которым чуть за тридцать, которые пишут на идише и которые пишут то, что хочется прочитать. Я настроен достаточно оптимистично.
— А у тебя никогда не было соблазна писать стихи по-русски?
— Когда я работал в русской газете, то сталкивался с необходимостью сохранять монокомпонентность речи. Первая ситуация, это когда не хватало идиом или каких-то русских слов для адекватного изображения реалий, не свойственных России. Но это происходит со всеми русскоязычными израильтянами, как, впрочем, и с иммигрантами, живущими в любой другой стране. Второе, поскольку, как я сказал, фольклорным языком для меня был больше украинский, я иногда, не досмотрев, мог допустить какие-то украинизмы, потому что не осознавал, что это не русский. А так, конечно, у меня нет ни малейших проблем с русским.
Тем не менее, соблазна писать стихи по-русски как такового у меня не было. Один раз перевел стихотворение Дриза на русский язык, напечатал его в самиздате под псевдонимом. Этот перевод был не хуже многих переводов, которые печатали, но я понял, что это не мое…
Я на это смотрю так. Дубнов сказал, что естественные литературные языки восточноевропейских евреев — это идиш, иврит и русский. Русский — тоже язык литературы восточноевропейских евреев. И я считаю это закономерной и очень важной частью нашего национального творчества. Канович повлиял на меня очень сильно. Я ценю поэзию вашего земляка Валерия Слуцкого, который сейчас живет в Израиле, на поселении. Но сам я писать стихи по-русски не могу. Поэтическое самовыражение на русском языке для меня неестественно. Совершенно другое дело написать какое-нибудь эссе или статью, это — да. Хотя несколько якобы стихотворных текстов я на русском языке, конечно, написал. Шварцман тоже писал что-то такое по-украински…
— Проблема писателя твоего поколения, творящего на идише, — это проблема человека, плывущего против потока обтекающей его речи. Грубо говоря, ты пишешь на одном языке, а говоришь на других. И это уже не только твоя проблема, но проблема любого идишского литератора, где бы он ни жил — в России, в США или в Израиле.
— Я пытался написать большое исследование на эту тему, собрал материал по всем литераторам послевоенных поколений, пишущим на идише, включая журналистов… и не доделал эту работу. Но на ее основе я подготовил небольшую статью, на идише, «Дор нохн хурбм» («Поколение после Катастрофы»), которая вышла в тель-авивском журнале «Топлпункт». Но это скорее эссе, правда, с претензией на подведение некоторых итогов.
Безусловно, это осознанный языковой выбор некоторых людей, ряд из которых я упомянул. Они все очень разные. Скажем, Бергер и Котлерман, один уроженец США, там, в Штатах, и живущий; другой переехал из Биробиджана в Израиль. В них очень сильно чувствуется начитанность и ориентированность на определенную литературную норму. Бергер пытается продолжать американскую линию в еврейской поэзии 1920–30-х годов, Котлерман больше тяготеет к символистам. Это мое, может быть, поверхностное ощущение.
У Котлермана некоторые произведения имеют две версии, русскую и идишскую, которые расходятся между собой, и иногда в идише чувствуется небольшая искусственность, особенно в его ранних произведениях. Но, например, последний, опубликованный в «Топлпункте», завершающий рассказ из «Биробиджанского цикла» — там этого уже не чувствуется. Этот рассказ напоминает мне по стилю Шолома Аша. Именно в языковом смысле.
Теперь, если мы говорим про Некрасова, то он пронзительно петербургский, российский поэт. Он живет внутри потока российской жизни, просто выражает себя словами языка идиш. Он принципиально отличается от Бергера и Котлермана.
— То есть существует несколько моделей самореализации на языке, на котором «говоришь» только за письменным столом?
— Да. Когда Некрасов пишет про каких-то девиц, с которыми он маловероятно чтобы говорил на идише, то ты невольно чувствуешь нынешнюю жизнь именно Петербурга, но не Израиля и не Америки.
Вообще, литератор, пишущий сегодня в России по-русски, тоже использует не тот язык, на котором разговаривает. Любой литературный язык — в некоторой степени условен, потому что построен еще и на аллюзиях, на культурных кодах и так далее. И я позволю себе не согласиться с тем, что критерием успешности поэтического творчества является близость к разговорной речи, фольклоризация текстов. Например, некоторые стихи Семена Фруга, иногда в переводах Переца, и стихи самого Переца стали фольклорными песнями. Не говоря уже о стихах Гольдфадена и Варшавского. Но если мы подходим к этим стихам как к поэтическим произведениям, у нас возникают по их поводу некоторые сомнения.
Многие песни эмоционально важны нам — вне зависимости от масштаба создавшего их поэта. В День Катастрофы и Героизма в Израиле поют песню «Зог нит кейнмол…» на стихи Гирша Глика — это потрясающе талантливо, некоторые строки просто пронзительные. Но это был молодой и не до конца раскрывшийся поэт. Другие его стихи не открывают, на мой взгляд, такой глубины.
Наш национальный гимн «Атиква» — вообще проблема. И неважно, как мы относимся к Нафтали-Герцу Имберу, но и в Израиле, и в диаспоре написанный им текст воспринимается как национальный гимн уже 120 лет. И будет восприниматься, это уже часть нашей истории. Кто-то спорит по поводу «God Save the Queen»? Поэтический текст и его включенность в актуальный языковой и общественно-политический контекст — это не одно и тоже.
— Во всяком случае, ситуация, когда человек пишет не на том языке, на котором говорит его семья, а это ситуация почти всех, пишущих на идише, тебя не смущает?
— Еще не так давно крупнейшие ивритские литераторы также не говорили на языке своего творчества. Бялик в повседневной жизни общался на идише, Черняховский — на русском, на немецком, но не на иврите. А если мы перейдем к Иегуде-Лейбу Гордону, и еще дальше — к Луцатто, к Иегуде Галеви, то поймем, что это нормальная бытовая ситуация и ничего удивительного в ней нет. А пиют «Йа Риббон Олам» рабби Исраэля Наджары, крупнейшего литургического поэта? Кто на арамейском языке говорил в Эрец Исраэль в XVI веке? Никто. Однако текст есть. Беседовал Валерий Дымшиц |
 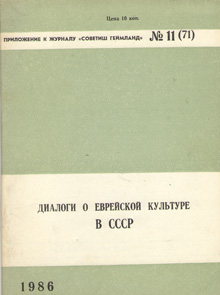 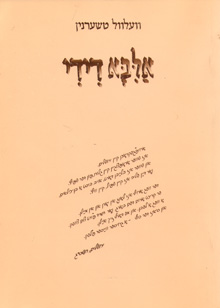  |



