|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 78 / Февраль 2009 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Маргарита Хемлин. Про Иону. Повесть. Знамя, 2008, № 7
Еще одно произведение из цикла «Про…» («Про Берту», «Про Иосифа»…), еще одно повествование о судьбе еврея из маленького городка на Украине — пожалуй, лучшее из всех. Послевоенная жизнь бывшего танкиста Ионы Ибшмана, мужа несчастной Фриды, шофера, грузчика, потом швейцара в московском «Национале», истинно безумна и монументальна. Явное, казалось бы, несоответствие образа и биографии героя, грустно-беспутного силача и гуляки, нелепо проматывающего свою жизнь на послевоенном пепелище, национальным стереотипам (и негативным, и позитивным) так же не акцентируется автором, как и их соответствие духу времени и поколения — насколько мы можем представить себе то время, и то поколение по другим книгам. Может быть, поэтому история, вызывающая в памяти скорее Платонова, чем Бабеля (как и язык, которым она изложена), так убедительна — и так убедителен ее открытый конец:
Ему снилось, что он с Рахилью. Во сне ему было так хорошо, как никогда не было. Но то вроде была и не сама Рахиль, а что-то другое. И не женщина. И вообще непонятное. Очнулся и подумал, что он снова в танке, и люк открыть нельзя, потому как сверху вода, целое море. Иона громко, не боясь потревожить соседей, начал требовать от всего сердца: — Ничего мне не надо, все у меня есть. Только сделай так, чтоб не было воды, чтоб я люк открыл, а то я сойду с ума, а мне еще надо как-то жить, раз я уже родился. И еще что-то важное дальше.
Инна Александрова. Warum? Знамя, 2008, № 9
Мемуарные записки пожилой интеллигентной дамы (автора восьми книг!) о национальном вопросе. Автор — полунемка, полуеврейка. Обе «половинки» стоили ей неприятностей: как немка она несколько лет после войны была вместе с родителями поражена в правах, а как еврейку ее не назначили главным редактором журнала — только и. о.
Две цитаты:
Тетка из соседней комнаты, увидев меня в длинном широком коридоре, не говорит, а шипит, как змея: «У! жидовское отродье…» Я ничего не понимаю, но чувствую: она злобно ругается. Почему — тут же возникает вопрос. Вечером спрашиваю об этом у родителей. Мама отвечает, что она, мама, по национальности еврейка, а такие тетки, как эта, которая была когда-то лавочницей и торговала мясом, евреев ненавидят. Я снова спрашиваю, почему. Потому, отвечает мама, что такие тетки — да и не только такие! — считают, что в том, что жизнь переменилась и у них отняли их лавки, виноваты евреи.
А вот завершающий аккорд:
Почему факт принадлежности к определенной национальности имеет у нас такое большое значение? Почему такая злоба, нетерпимость, пренебрежение? Почему теперь, когда «не своих» осталось совсем мало — умерли, уехали, рассосались, — «не своими» стали другие, и их тоже ненавидят? Может, потому, что у нас государство лавочников? В самом низу и на самом верху? И эти лавочниковские гены передаются из поколения в поколение. Почему? Почему? Warum?
Характерный для честного пожилого советского человека ход мысли… Но вообще-то евреи как раз и были веками, в значительной своей части, лавочниками.
Владимир Фридкин. Безродные космополиты. Знамя, 2008, № 12
Воспоминания об общении с выдающимся немецко-английским физиком Вольфом Бергом и его семьей. Живший после войны в Швейцарии Берг был квакером, но происходил из еврейской семьи. Один из братьев Берга женился на русской эмигрантке, другой чудом спасся от нацистов в Амстердаме, а после войны перебрался в Израиль и поселился в кибуце… Честно говоря, почти до самого конца очерка не очень понятно, какое отношение имеет ко всем этим интересным и выразительным сюжетам пространный эпиграф (из академика С.М.Рытова): «Дело не сводится к язвительному замечанию Ильи Эренбурга, что иногда победители заражаются от побежденных “стыдной болезнью”. Дело историков — прояснить связь арийского расизма и юдоцида немецкого фашизма с послевоенным расцветом национализма и антисемитизма в Советском Союзе… Ярлык… “безродный космополит”… и служил для того, чтобы открыто не называть преследуемую национальность. “Стыдная болезнь” требовала маскировки, и… “марксистская философия” взяла на себя роль идеологической “крыши” для антисемитской кампании». А дело, как все-таки выясняется в конце повествования, в том, что Берги — они и есть подлинные, в хорошем смысле этого слова, космополиты.
Людям, прожившим, как автор воспоминаний, всю свою жизнь в СССР, трудно не оглядываться, пусть в негативном смысле, на язык и представления советского общества. Но временами эти «оглядки» производят грустное и нелепое впечатление.
Илья Кукулин. С ними всегда проблемы Леонид Кацис. Еврейский канон: от языков — к языку Новое литературное обозрение, 2008, № 89
Две рецензии на русский перевод весьма неоднозначной книги Рут Вайс «Еврейский литературный канон» (М.–Иерусалим, 2008). Рецензенты — московские критики и литературоведы очень разного склада: Илья Кукулин — в основном, строгий позитивист, хотя и знающий толк в постструктуралистской методике; Леонид Кацис — чистой воды постмодернист от литературоведения, оглушающий читателя фейерверком эффектных, но не всегда обоснованных идей и гипотез. Различна и степень их вовлеченности в еврейский контекст (у Кациса она не в пример больше).
Основную идею книги Вайс Кукулин определяет так: «Еврейская литература конца XIX и всего ХХ в. создана на разных языках, а произведения, которые могут быть определены как “еврейские”, часто относятся к двум (или даже более чем к двум) литературам одновременно: так, проза Исаака Бабеля, Владимира Жаботинского и Василия Гроссмана относится одновременно к еврейской и русской литературам, Сола Беллоу и Бернарда Маламуда — к еврейской и американской, Франца Кафки — к еврейской и немецкой и так далее. Основанием для определения какого-либо произведения как “еврейского”, по мнению Вайс, является не язык, на котором оно написано, а его содержание и этнокультурная самоидентификация автора, насколько она может быть реконструирована по авторским декларациям или частным документам: письмам, дневникам, воспоминаниям современников…» Нельзя назвать эту мысль Вайс особенно оригинальной, и притом в ней слишком много «подводных камней». С одной стороны, понятно, что на одном языке может существовать много разных литератур и что одна литература (скажем, канадская) может существовать на разных языках. С другой — нельзя все сводить к самоощущению автора и к тематике. Есть ведь еще и такая вещь, как адресация текста. Простая аналогия: написанное по-французски «Философическое письмо» Чаадаева — несомненно, явление русской культуры, а «Пнин» Набокова — нет (хотя автор этого романа — русский, и главный герой — тоже), просто потому, что Чаадаев писал для франкоязычных русских дворян, а Набоков — для американцев. Точно так же очевидно, что одно дело — написанные на нееврейских языках (но для евреев!) тексты Маймонида и Филона, и совершенно иначе все обстоит, скажем, с рассказами Бабеля, ориентированными, прежде всего, на нееврейского читателя.
Впрочем, поиск аналогий может подсказать и неверные ходы. Кукулин, в целом с симпатией относящийся к «каноностроительству» Рут Вайс, посвящает свою статью украинскому поэту Сергию Жадану, который «в 2007 году… выступил с резкой критикой тех соотечественников, которые отказывают Гоголю в праве называться украинским писателем оттого, что он писал по-русски». Но разве история (не особенно долгая) украинской культуры и — самое главное! — ее взаимоотношения с культурой русской хоть чем-то похожи на историю евреев и их отношения с окружающими народами?
Кацис, еще более симпатизирующий концепции рецензируемой книги, указывает, что Вайс представляет «различные еврейские литературы в качестве национальных “диалектов” единого еврейского национального “литературного языка”», восходящего к Библии. Но чтобы понимать эти диалекты, необходимо осознавать степень их взаимосвязи (или расхождения) с языками других литератур. Между тем, по его же словам, Вайс ограничивается авторами и текстами, существующими в переводе на английский, а при воспроизведении исторического контекста нередко допускает ошибки.
Разумеется, оба рецензента замечают, прежде всего, неточности, касающиеся русской литературы. Например, Кацис выделяет следующий размашистый пассаж Рут Вайс: «Многие из российских евреев — современников Бабеля, такие как: Илья Эренбург, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Виктор Шкловский, выросли в ассимилированных семьях, где их родители отсекли всякую связь с еврейством и лишили детей необходимого знания о самих себе, отчего, возможно, эти умные дети восприняли свою национальную идентичность как нечто постыдное». Очевидно, что это не соответствует действительности в случае Мандельштама, Эренбурга, да и Пастернака (который сам, по своей воле «отсек всякую связь с еврейством»), а ситуация Шкловского, родившегося в смешанной семье, вообще особая. Далее: как указывает Кацис, роман Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» «направлен не на борьбу с советским антисемитизмом (как полагает Р.Вайс), а на борьбу с антисемитизмом… французским». Отметим, что в действительности этот роман содержит и весьма язвительную рефлексию на тему еврейского «национального типажа», в силу чего сам Эренбург, если верить его мемуарам, не стремился к переизданию книги после Холокоста.
И, тем не менее, общая оценка книги рецензентами скорее позитивна. В данном случае, как справедливо указывает Кукулин, «постановка проблемы намного важнее и убедительнее предложенного решения».
Илья Винницкий. О дяде Гордее и жиде Лейбе (Поучительный случай из истории русской «литературы для народа»). Новое литературное обозрение, 2008, № 93
Колоритная история: на рубеже 1880-х годов российские власти озаботились изданием массовой официозно-пропагандистской литературы, к производству которой привлекли и «народных» авторов, прежде всего выходцев из крестьянства. К числу опубликованных тогда при правительственной поддержке изданий принадлежала и стихотворная брошюра, озаглавленная: «ВЕНОК ЦАРЮ-ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ, БЕССМЕРТНОМУ ОСВОБОДИТЕЛЮ русских крестьян и славянских народов, ХРИСТОЛЮБИВОМУ ВСЕРОССИЙСКОМУ ГОСУДАРЮ АЛЕКСАНДРУ II БЛАГОСЛОВЕННОМУ, ВЕЛИЧАЙШЕМУ из Монархов всего мира и НЕЗАБВЕННОМУ ДРУГУ человечества. Стихотворения простолюдина Г.М.Швецова». В убийстве царя-освободителя «простолюдин» обвинял, в числе прочих, и «жидов-министров стран чужих» — имелись в виду Дизраэли, к моменту убийства Александра II уже оставивший политику, и Гамбетта, слухи о еврейском происхождении которого были, видимо, ложны.Автор «Венка» вещал: «И много там жидов других, // Христопродавцев окаянных, // Пилатов, Иродов, Иуд // И фарисеев краснобайных, // Которым Страшный Божий Суд // Готовит вечное мученье...»
Рецензент, откликнувшийся на «Венок» в журнале «Исторический вестник» и подписавшийся литерами Н.Л., высмеял беспомощное сочинение Швецова, а также обратил внимание на то, что прежде «простолюдин» опубликовал «очень несостоятельное сочинение по бухгалтерии». Бухгалтер-самоучка Швецов, «дядя Гордей», резко ответил зоилу, обвинив того в том, что сам он — злоумышленник, враг России и, наверняка, тоже скрытый «жид Лейба». Выяснилось, однако, что Н.Л. — это известный русский писатель Николай Лесков. Которому, кстати, тоже предлагали участие в пропагандистском проекте — но он отказался.
Илона Светликова. Кант-семит и Кант-ариец у Белого. Новое литературное обозрение, 2008, № 93
Статья входит в цикл журнальных материалов, специально посвященных «расовой идее» в культуре Нового времени. В данном случае речь идет об Андрее Белом, одном из крупнейших русских писателей Серебряного века, чья статья «Штемпелеванная культура» стала главным манифестом российского… скажем так: «расового антисемитизма с человеческим лицом». В приватных записях Белого человеческое лицо, однако, исчезает: источником историософских представлений писателя были работы не только Отто Вейнингера и Хьюстона Чемберлена, но и такого примитивного и одиозного автора, как А.С.Шмаков.
Кант был для европейских и русских расистов воплощением арийского разума, освобождающегося от «семитского догматизма». Но духовная эволюция Белого привела к тому, что Кант в конце концов превратился под его пером в «семита» или «туранца» (жестокие и неспособные к творчеству «туранцы» противопоставлялись «благородным иранцам»). Релятивизм и многослойность, свойственные сознанию Серебряного века и обусловившие его великие свершения, здесь оборачиваются фарсовой и опасной стороной.
Залман Градовский. <Письмо к потомкам>. <Дорога в ад>. Посреди преисподней. Звезда, 2008, № 7–9
Как ни странно, один из самых потрясающих документов Холокоста до сих пор полностью по-русски не публиковался (хотя первый, частичный перевод его с идиша еще в 1948 году выполнил врач Меер Карп, отец и дед известных переводчиков). Впрочем, по-своему это понятно: речь идет о тексте уникальном, не вмещающемся в человеческие измерения и способном шокировать даже привычного ко многому читателя. Варлам Шаламов писал, что писатель XX века должен быть не «Орфеем, спускающимся в ад», но «Плутоном, поднимающимся из ада». Шаламов хорошо знал, что такое ад, но, прочитав произведение Градовского, понимаешь: даже автор «Колымских рассказов» был не на последнем адском круге.
Градовский, впрочем, на свой круг сошел, можно сказать, добровольно. Жуткая служба в зондеркоманде в условиях Освенцима означала продление (на некоторое время) физического существования, но ценой полной утраты всяких человеческих чувств и достоинства. И, тем не менее, что-то человеческое сохранялось и даже одержало победу: именно зондеркоманда сыграла решающую роль в обреченном восстании заключенных Биркенау в октябре 1944-го. Градовский погиб во время этого восстания. Но еще удивительнее, что он — не чуждый до войны литературных интересов — создал своего рода литературное произведение, отразившее его страшный, ни с чем не сравнимый опыт. Рукопись была найдена на развалинах концлагеря кем-то из грабивших его мародеров и чудом попала в руки исследователей.
Слог рукописи Градовского не похож ни на аскетичную шаламовскую манеру, ни на скупую, лишенную украшений стилистику большинства лагерных мемуаров. Ему не чужд риторический пафос:
Иди сюда, ко мне, свободный гражданин мира! Твоя земля отгорожена от нас новой китайской стеной — и дьяволам не достать вас. Я же расскажу тебе, как они завлекли в свои адские объятия целый народ, кровожадно вонзили свои страшные когти в его шею и задушили его.
Он пытается — из последних сил — очеловечить свою ужасную, омерзительную, в иных отношениях предательскую службу:
Около меня сейчас группа из десяти-пятнадцати женщин — в одной тачке поместится пепел, в который превратятся они все. <…> Наши сердца наполняются состраданием. Ах, если бы мы могли отдать свою жизнь за них, наших милых сестер, как бы мы были счастливы! Как хочется прижать их к страдающему сердцу, расцеловать, самим напитаться жизнью, которую у них скоро отнимут. Запечатлеть навсегда в сердце их облик, след этих цветущих жизней, и вечно носить его с собой. Нас всех одолевают ужасные размышления… Любимые наши сестры смотрят на нас с удивлением: они недоумевают, почему мы себе не находим места, когда они сами так спокойны. Они бы хотели о многом поговорить с нами: что с ними сделают после этого, когда они будут уже мертвы… Но они не находят смелости спросить об этом, и тайна до конца остается для них тайной.
И буквально следом — подробное описание технологических деталей уничтожения тел, извлеченных из газовой камеры, описание, которое и цитировать-то не хочется. И забыть его невозможно.
Наталия Юхнёва. Русские евреи в России и Израиле. Нева, 2008, № 9
Многое в статье видного этнографа Н.В.Юхнёвой, специалиста по этнической истории Петербурга, — не новость. Достаточно предсказуем и итоговый вывод: «После трагической катастрофы, постигшей ашкеназов в годы Второй мировой войны, русские евреи уже не могут рассматриваться как их составная часть. Вместе с тем русские евреи не стали самостоятельным этносом, остались на уровне субэтноса. Неизбежен вопрос: субэтнос в составе какого народа? Массовый исход евреев из СССР имеет своим следствием раздвоение судьбы этого субэтноса. Некоторое время он будет сохранять определенное единство, тем не менее евреи, оставшиеся в России, могут рассматриваться как субэтнос в составе русского народа, а евреи, уехавшие в Израиль, — в составе израильского народа. Ассимиляция, превращение в России евреев в русских, а в Израиле — в израильтян, зависит от множества факторов, и предсказать скорость этого процесса невозможно». Единственная погрешность этих рассуждений — в свойственном этнографам универсализме, игнорировании того факта, что в словосочетаниях «русский народ», «еврейский народ», «израильский народ», «американский народ», «каракалпакский народ» разнится не только определение — само определяемое имеет совершенно разный смысл.
Однако в статье есть ряд гораздо менее тривиальных (хотя и не бесспорных) соображений и наблюдений. Вот одна смелая и интересная параллель:
Прочтите характеристику некой человеческой общности и попытайтесь угадать, о ком идет речь. Очень сильное ощущение своего единства, основанного на религии. Огромная роль Книги (Библии). Совместно читают, толкуют. Есть особые знатоки, пользующиеся большим уважением. Авторитет их очень высок, что позволяет им исполнять функции судей во внутренних делах членов общины. Всеобщая грамотность, которая требуется для чтения священных книг. Особенная преданность религии: при попытках заставить отказаться от нее предпочитают смерть. Много бытовых особенностей, отличающих группу от окружающего населения. Регламентирование бытового поведения. Общинность. Замкнутость, герметичность сообщества. Она частично, может быть, связана с гонениями, но в гораздо большей степени идет изнутри. Дистанцирование от властей. Стремление по возможности не исполнять административные предписания. При выходе за пределы общины, в более-менее модернизированный мир, — склонность к предпринимательству, успешность в делах. Я повторяю вопрос: о ком это? Знатоки еврейской истории скажут: о восточноевропейских евреях, ашкеназах. Знатоки русской истории скажут: о старообрядцах, хранителях «древлего благочестия».
К сожалению, в статье есть обидные неточности: например, Семен Акимович Ан-ский именуется Акимом Семеновичем.
Александр Мелихов. Интернационал дураков. Роман. Нева, 2008, № 11
Один из наиболее удачных романов Александра Мелихова.
Постоянная тема писателя — преобразующая мир греза — на сей раз аранжируется по-новому. Перед нами — сложное переплетение человеческих судеб, сложная смесь надежд и разочарований. «Нормальная» человеческая жизнь соприкасается со специфическим миром «даунов», дебилов, аутистов — и сама балансирует на грани безумия. В центре — любовная история. Героиня — пламенная прозелитка иудаизма, долгое время жившая с мужем в Финляндии и работавшая там в доме умалишенных, а в финале уезжающая от любовника в Израиль: «…интерес к евреям у нее, как водится, пробудили антисемиты — что же это за важные птицы такие, о которых столько говорят!.. Прошло, наверно, года три, прежде чем ей удалось разыскать еврейскую семью — и это оказались, как на грех, приятнейшие люди…» Другая линия книги — «легендарный Лев Аронович Левит», литаврист, который «отверг предложение Евгения Александровича Мравинского, чтобы посвятить себя воспитанию умственно отсталого сына».
На обочине повествования возникают любопытные сюжеты из российской (и русско-еврейской) жизни последних десятилетий. Например: «Моя мама очень гордилась, что ее ученик Петя Мандаков поступил в Ленинграде и сделался выдающимся селькупским, не то хантским поэтом. Когда Мандаков был увенчан Госпремией Эрэсэфэсэр, я даже хотел из ностальгических чувств купить его “Избранное”, но тут, как на грех, познакомился с его переводчиком, монголоидным евреем. Босс зазывал его в свой чум на улице Ленина и объявлял: требуется стихотворение “Я твой олень — ты моя олениха, я тебя люблю — ты от меня убегаешь”. И слуга чужого вдохновения за полчаса вынашивал из этой капельки семени целую балладу: ай-ай-ай, ты моя олениха, твои рога как кедровник, твой мех как ягель, — больше наплетешь — больше огребешь…»
У эпизода очевидная документальная первооснова…
Ясмина Хадра. Теракт. Роман. Иностранная литература, 2008, № 8
Пожалуй, мы еще не слышали рассказа об арабских терактах в Израиле с этой стороны: со стороны араба, отнюдь не желающего жертвовать своей жизнью во имя «борьбы с сионизмом», но против своей воли оказывающегося между двух огней. Роман франкоязычного алжирского писателя презентует именно эту точку зрения. Главный герой — этнический араб, гражданин Израиля, врач по профессии, космополит по убеждениям… Друзья — евреи. Первая возлюбленная — еврейка («В нашем романе кипела обжигающая первозданность. Я безмерно страдал, когда ее похитил у меня молодой русский бог, только что расставшийся с комсомолом. Это был сильный игрок, тут нечего было возразить. Потом я женился на Сихем, а русский взял и через день после распада советской империи, ни слова не сказав, улетел на родину…»). Арабский юноша женится на арабке — и после десяти лет счастливого брака она… становится террористкой-смертницей. Выбраться из паутины этнической и конфессиональной ненависти оказывается непросто…
Мордехай Рихтер. Что заставляет меня писать. Иностранная литература, 2008, № 11
Маленькое исповедальное эссе Мордехая Рихтера, недавно умершего канадского писателя, автора «Версии Барни» и других произведений, посвященных, в первую очередь, жизни еврейской общины Монреаля. Тема размышлений — кризис романного жанра. С тех пор как написано эссе, прошло почти сорок лет. Жанр устоял.
Михаил Майков, Давид Гарт. О евреях и не только. Иностранная литература, 2008, № 12
Рецензия на книжную серию «Проза еврейской жизни», выпускаемую с 2005 года издательствами «Текст» и «Еврейское слово». Рецензия — подробная, сугубо положительная, даже панегирическая, но не свободная от болезненных комплексов:
Разрушен оказался… стереотип: после знакомства с книгами серии невозможен взгляд на еврейскую литературу как на этнографический кунштюк, представляющий интерес только для самих евреев и тех, кто по долгу службы или из праздного любопытства изучает это странное племя с причудливыми обычаями и традициями. Еврейская проза предстает в «текстовских» книгах достойной сестрой европейских литератур (русской в том числе), и герои ее мучаются теми же «общечеловеческими» вопросами, что и персонажи прозы английской или французской. Важнейший принцип составителей «Прозы еврейской жизни» — в серию включаются по преимуществу книги, авторов которых интересует не еврей, а человек как таковой.
У кого же существует такой стереотип — и на каком основании он сложился? И почему «еврейское» противопоставляется «человеческому», а не рассматривается как один из его законных вариантов? Думается, подобный взгляд свойственен не благожелательному и просвещенному российскому читателю, на которого, хотелось бы надеяться, рассчитана серия, а еврею, стесняющемуся своих национальных корней.
Игорь Померанцев. Мой маленький Израиль. Октябрь, 2008, № 7
Крохотное эссе русского поэта, прозаика, журналиста, сменившего много стран, а ныне живущего в Праге. Это тот случай, когда стоит ограничиться пространной цитатой:
В детстве я жил в Израиле. Назывался он Черновцы. Сначала мне об этом сказал отец. На мой вопрос, бывал ли он за границей, он ответил: «Мы живем за границей». Но не уточнил, за какой именно. Я знал, что евреи живут не только в Черновцах, но и в Москве, Киеве, Ленинграде. Но столичные евреи жили другой жизнью: они все без исключения были людьми богатыми и достойными. А у нас евреи были разные: валютчики, врачи, проститутки, шпана, спортсмены, среди них участник Олимпийских игр, чемпионы Украины и СССР. Я вообще в детстве считал, что самые лучшие спортсмены в мире — евреи, особенно борцы и боксеры. О том, что есть такая страна Израиль, я узнал очень рано. Из Черновцов даже в самые лютые холодные войны в Палестину уезжали навсегда. Я очень сочувствовал Израилю: в шестидесятые годы туда ехала еврейская нищета — матери-одиночки с сопливыми детьми, инвалиды, которых гноили в чуланах любящие родственники, рецидивисты, поэты, писавшие на никому не нужном идише. Это был мутный ручеек, который, как мне тогда казалось, может загрязнить чистые водоемы Израиля, созданные в пустыне еврейским гением. Мои еврейские друзья в пику люмпенам и неудачникам, закончив школу, уезжали в Сибирь и там в пятнадцать лет становились докторами физико-математических наук…
Михаил Генделев. Одно стихотворение. Октябрь, 2008, № 11
Одно стихотворение поэта, родившегося в Ленинграде, живущего в Иерусалиме и Москве. Энергичное, жесткое, бесшабашное: «бежимте // в // на голое тело в халате // смотреть как идет с потолка алфавит…»
Сергей Рыбаков. Без ретуши. Штрихи к портрету Якова Свердлова. Урал, 2008, № 7
Как известно, город Екатеринбург, получивший назад свое историческое имя, по-прежнему окружен Свердловской областью. Автор выступает (на страницах уральского журнала) за исправление этой нелепости (аналогичной ситуации с Петербургом и Ленинградской областью). Мотивирует он это двояко: во-первых, Яков Свердлов — фигура как минимум сомнительная (экстремист, боевик, инициатор расстрела царской семьи, включая женщин и детей, и т. д.); во-вторых, Свердлов был не так уж сильно связан с Екатеринбургом, в одном из писем назвал город «скверной дырой» и «скорее всего, он предпочел бы “увековечиться” в родном для него Нижнем Новгороде». Иными словами — и скверный он, и не наш. В смысле — не екатеринбургский (о еврейском происхождении председателя ВЦИК автор практически не упоминает).
Миколас Слуцкис. Сердце. Рассказ. Дружба народов, 2008, № 8
Добротно, в хороших традициях написанный рассказ литовского писателя, посвященный теме Холокоста. Деревенская семья, боясь за свою жизнь, отказывается спрятать маленькую дочку соседа-еврея (девочка белокурая, сошла бы за литовку), потом меняет решение — да уже поздно. |
 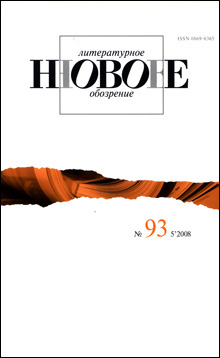  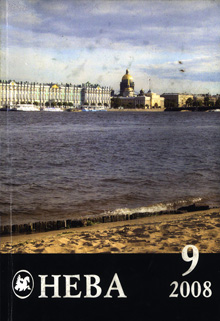 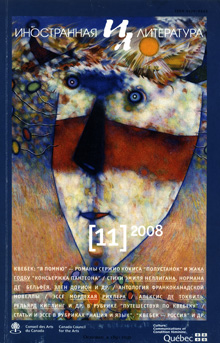 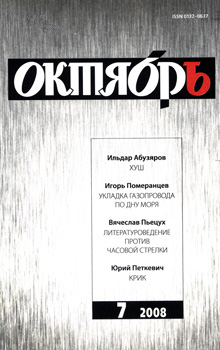 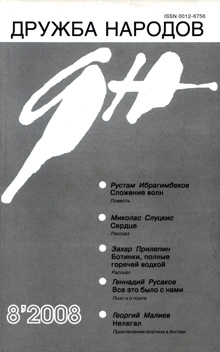 |


