|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 92 / Июнь 2011 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Михаил Румер-Зараев. Девять российских дней Теодора Герцля. Дружба народов, 2010, № 8
Тема статьи — посещение Петербурга в 1903 году основоположником политического сионизма. Герцль получает аудиенции у министра внутренних дел Плеве (которого в еврейских кругах России считают виновником Кишиневского погрома — встреча с ним сионистского вождя вызывает почти негодование) и у министра финансов Витте (который наоборот — пользуется репутацией «друга евреев»). Как ни странно, Плеве ведет себя с иностранным гостем гораздо любезнее Витте.
Главной целью Герцля при этом являлось — добиться личной встречи с Николаем II, чтобы «от имени мирового еврейства просить его о воздействии на турецкого султана, пусть разрешит иммиграцию из России, этого главного резервуара еврейства, даст правовые основания для такой иммиграции — чартер, и всем будет польза». Нелепость проекта была очевидна уже в то время — в том числе и с учетом российско-турецких отношений. Впрочем, петербургские сановники дали Герцлю некие неопределенные обещания, которые никто не собирался выполнять, но которые он смог предъявить на сионистском конгрессе в оправдание поездки.
Достоинство статьи Румера-Зараева — подробное и тщательное воспроизведение контекста, в том числе взаимоотношений между российскими и западноевропейскими еврейскими активистами, различий их поведения, менталитета, психологии. В очередной раз статья заставляет задуматься о соотношении масштаба личности — с масштабом выпадающей ей миссии. Каким образом Герцль — с его, как деликатно называет это публицист, «донкихотством», с его искаженным и наивным восприятием реальности, с его кругозором газетного репортера — сумел сыграть настолько колоссальную историческую роль?
Владимир Губайловский. О евреях и велосипедистах. Новый мир, 2010, № 12
Рецензия на книгу современного русского поэта Алексея Цветкова. В центре внимания — стихотворение «исход» (название строчными буквами), в котором соединились два сюжета — исход евреев из Египта и велосипедный кросс. Как отмечает новомирский критик, «Цветков сталкивает две предельно разнесенные смысловые реальности, которые случайно пересекались разве что в старом анекдоте».
Валерий Черешня. Реквием по эпохе. Знамя, 2010, № 11
Рецензия на роман Маргариты Хемлин «Клоцвог» (М., 2009). Заглавному персонажу романа (написанного от первого лица) рецензент (петербургский поэт) дает такую характеристику:
Жесткостью характера Майя Абрамовна сродни множеству классических персонажей от ветхозаветных героинь и образов античной драмы до народоволок и опоэтизированных комиссарш. И вся эта несгибаемость и непреклонность, оправданная и смягченная в классических образцах трагическими обстоятельствами, направлена на выживание в чистом виде, на борьбу за счастье, в которой ценой невероятных усилий удается только сгладить тут и там выпирающие горбы очередного несчастья.
В центре внимания Черешни оказывается язык, которым говорит и думает Майя Абрамовна Клоцвог — утрированно стереотипная речь полуинтеллигентного обывателя 1950–1970-х годов: «…Хемлин удается из полубессмысленных штампов, которыми склеротическое сознание поздней советской эпохи отгораживалось от живой жизни, воссоздать эту жизнь, и мы испытываем то же погружение во время с мгновенным освобождением от всего временного, как и в случае с Платоновым». Сопоставление смелое и ответственное. И для рецензента, и для романиста.
Мария Рольникайте. Без права на жизнь. Повесть. Звезда, 2010, № 9
Имя автора — более чем славное и почтенное. Стилистика — традиционная. Материал — ожидаемый: Литва накануне и во время Холокоста. Героиня — литовка Гражина, благородная, чистая душа: перед 22 июня 1941 года прячет своего одноклассника, сына бургомистра, скрывающегося от депортации, а с началом войны укрывает еврейских детей.
Леонид Котляр. «Остарбайтер». Звезда, 2010, № 11
Фронтовые мемуары. Судьба автора необычна: еврей, киевлянин, в 1941-м попал в плен к немцам; выдал себя за полуукраинца-полуцыгана (по лагерным документам проходил как украинец); после нескольких месяцев жуткого лагеря в числе военнопленных‑украинцев выпущен; благоразумно не поехал в Киев, работал батраком на хуторах; мобилизован в качестве остарбайтера и отправлен в Германию; освобожден американцами и депортирован в советскую зону; благополучно прошел фильтрацию… В сущности, человек со счастливым билетом в кармане — но по каким страшным станциям ему пришлось с этим билетом проехать!
Многие подробности поражают. В ходе пребывания у немцев — и первого, и второго — герою не раз пришлось проходить медкомиссию, но врачи подчеркнуто не обращали внимания на «признак еврейства», равнодушно фиксируя отсутствие венерических заболеваний.
Вот еще один выразительный и нетривиальный эпизод:
Командовал нами немец-конвоир лет шестидесяти, седой, с голубыми глазами, вооруженный винтовкой. Когда наступило время перекура, немец отозвал меня в сторону, увел за сарай, в который мы складывали дрова, и спросил по‑русски: — Ты еврей? — Нет, — отвечал я. — Не бойся, я тебя не выдам, — сказал немец, но я и не думал признаваться. — Все равно ты очень похож на еврея! — И велел подождать его за сараем. Через несколько минут он вернулся со всем, необходимым для бритья (даже принес горячей воды), и с ножницами. Он наскоро остриг мои курчавые волосы, успевшие весьма основательно отрасти, а затем я побрился и умылся. Из небольшого зеркала на меня смотрел малознакомый мне человек, молодой, в кубанке, с лихо выпущенным из-под нее чубчиком и с усиками (я решил не сбривать усов). — Вот так лучше, — сказал немец. Пока я брился, он рассказал, что попал к нам в плен во время прошлой войны, что видел от наших людей много добра по отношению к себе и другим пленным, научился говорить по-русски и хочет отплатить добром за добро.
Иехудит Кацир. Шлаф штунде. Иностранная литература, 2010, № 7
Очень красивый, плотно написанный и при том психологически тонкий рассказ о подростковой любви между двоюродными братом и сестрой — на фоне реалий Израиля 1950-х годов, включая свежую память о Холокосте. Достаточно сказать, что герои уподобляют себя Анне Франк и ее другу Петеру.
Рассказ переведен с иврита Светланой Шенбрунн. С точки зрения языка и стиля перевод отличный. Впрочем, стремясь найти органичную русскую замену каждой из реалий, иногда Шенбрунн доходит и до излишества — едва ли есть необходимость по‑русски называть хамсин «летним суховеем».
Меир Шалев. Впервые в Библии. Иностранная литература, 2010, № 7
Главы из культорологической книги израильского прозаика, почти одновременно вышедшей в полном объеме в популярной серии «Чейсовская коллекция».
Александр Мелихов. По святым камням Европы. Попурри. Иностранная литература, 2010, № 9
Обрывочные путевые записки, перемежающиеся более или менее путаными и торопливыми рассуждениями «о самом главном» — в том числе и еврейском (и вообще национальном) вопросе. При этом, разумеется, Мелихов не был бы Мелиховым, если бы в какой-то момент не заявил: «Все решают грезы, которыми живет народ». Столь же привычно звучат и другие мысли, даже выраженные в откровенно провокационной форме: «Нет, гетто лучше, чем Освенцим. Разрушение гетто и было первым шагом к Освенциму».
Но все-таки в Мелихове, как почти в любом писателе, ценны не рассуждения, а способность видеть и высказать. Вот — как раз об Освенциме:
Это не была сверхпродуманность высоких технологий, это была продуманность крепкого совхоза, не более того. И кирпич был уложен без особой старательности, и духоподъемный лозунг «Труд делает свободным» был сварганен кое-как… Нет, для совхоза это было совсем неплохо, но для фабрики слишком уж кустарно, на одни трубы посмотреть: коренастые, тупые, квадратные — типичное подсобное хозяйство. Чтобы мы сразу поняли, что большего не стоим: здесь не радиолы делают и не швейцарские часы.
Бенедикт Сарнов. Сталин и Бабель. Октябрь, 2010, № 9
Статья содержит ряд интересных документальных материалов, касающихся отношения Сталина к Бабелю и отношения Бабеля к политическим событиям 1930-х годов. Портит ее характерное для Сарнова высокомерное отношение к писателям, жившим в сталинскую эпоху. Тех, кто неправильно (с современной точки зрения) понимал происходящее, критик сдержанно журит, правильно понимавших (к их числу Сарнов относит и автора «Конармии») покровительственно одобряет.
Лев Бердников. Петр I и евреи (импульсивный прагматик). Нева, 2010, № 11
Краткая и абсолютно дилетантская статья на тему, требующую пухлого исследования. Примечательно, что автор ссылается на точно таких же дилетантов (А.С.Каца, Ф.Канделя), именуя их «историками». Характерно и нагромождение разновременных и разнохарактерных фактов без малейшей попытки понять истинный смысл каждого из них. Еще один пример дилетантизма: Бердников приводит фразу Крижанича о том, что «Россия погибнет от перекрестов и их потомков», — между тем слово «перекрест» писатель XVII века употребляет в совершенно ином, «нееврейском» смысле, имея в виду перешедших в православие католиков и лютеран.
Что же до сути дела, то несомненно: Петр Великий относился к евреям и иудаизму не лучше и не хуже, чем большинство христиан той эпохи, то есть в целом — не слишком доброжелательно. Это не мешало ему пресекать мародерства и грабежи солдат — независимо от того, касались ли они евреев или христиан, проявлять интерес к иудейскому вероучению (он вообще был любознательным человеком), пользоваться услугами отдельных еврейских купцов и факторов (в отличие от своей дочери, он не гнушался «интересной выгодой» от кого бы то ни было) и не копаться в родословной приближенных, на деле доказавших свою преданность и компетентность.
Харриет Мурав. Опасный универсализм: перечитывая «Двести лет вместе» Солженицына. Новое литературное обозрение, 2010, № 103
Американский литературовед и культуролог пытается взглянуть на труд Солженицына по-новому, а именно — «проследить его позицию в рамках более широкой истории универсализма и реакции на него в России». С точки зрения исследовательницы, «гораздо важнее понять границы отстаиваемой им политической модели и ее последствия для развития русской политической мысли, чем подсчитывать, сколько раз он верно или неверно толкует русско-еврейскую историю».
Иными словами, Мурав не спорит с Солженицыным, а анализирует нобелевского лауреата как объект, рассматривая его взгляды в широком интеллектуальном контексте. Сам по себе такой подход представляется единственно правильным. Увы, в конце статьи автору не удается избежать наивной оценочности: она сопоставляет взгляды Солженицына на государство и нацию с взглядами современных американских политологов — в пользу последних, разумеется.
Виктор Каради. Евреи в социальных науках: подступы к решению вопроса. Новое литературное обозрение, 2010, № 103
Венгерский историк и социолог анализирует причины количественно огромного участия евреев в развитии социальных наук в XX веке — от политологии до психоанализа, от статистики до философии. По его мысли, эти ученые, укорененные в традициях Гаскалы, «не просто стремились доставить счастье всем евреям, но выступали за построение новой системы норм, за реформу еврейской жизни и за конструирование ближайшего социального будущего». А главное — они стремились так преобразовать окружающий мир, чтобы евреям нашлось в нем место.
К сожалению, эти правильные, но не слишком оригинальные мысли высказываются автором чрезмерно многословно и наукообразно.
Алек Д. Эпштейн. Русско-еврейские интеллектуалы первого советского поколения: штрихи к портрету. Новое литературное обозрение, 2010, № 103
В центре внимания исследователя судьбы четырнадцати ученых-гуманитариев, родившихся между 1918 и 1931 годами, в том числе Ю.М.Лотмана, Г.С.Померанца, Е.М.Мелетинского, Л.С.Клейна, А.М.Пятигорского. Можно ли отнести их к первому советскому поколению? Если да, то — в очень специальном, нуждающемся в оговорках смысле. Эпштейн пытается проследить эволюцию национального самосознания этих ученых и восприятия ими собственного еврейства. Общего оказывается немало: ассимилированные семьи (но почти у всех есть патриархальные религиозные родственники, изредка появляющиеся в доме), столкновение с государственным и народным антисемитизмом в военные и послевоенные годы, у некоторых — арест, успешная деятельность в годы «оттепели»… И при этом — настойчивое стремление в своей работе держаться подальше от чего бы то ни было еврейского. Даже занимаясь такими сферами, в которых естественным было бы затронуть еврейскую тематику (биография Эмиля Золя или история средневековой Европы), они тщательно избегали соприкосновения с ней. Причем это не было проявлением тривиального малодушия (в иных областях эти люди проявляли, как мы знаем, немалое мужество и даже вступали в конфликт с властями): страх перед «национальной ограниченностью» шел изнутри…
Константин А. Богданов. «Жид на бумаге»: Историко-филологический комментарий к одному выражению в «Господине Прохарчине» Ф.М.Достоевского. Новое литературное обозрение, 2010, № 104
«Жид на бумаге» в этом рассказе Достоевского обозначает всего-навсего «кляксу». Анализируя различные источники, исследователь приходит к выводу, что выражение было вполне употребительным, хотя и довольно редким, и использование его никак не связано с общими воззрениями Федора Михайловича на еврейский вопрос.
Александр А. Панченко. К исследованию «еврейской темы» в истории русской словесности: сюжет о ритуальном убийстве. Новое литературное обозрение, 2010, № 104
Отправной точкой для рассуждений автора служит знаменитый диалог Алеши и Лизы в «Братьях Карамазовых». Автор не соглашается с точкой зрения Леонида Гроссмана и других исследователей, полагавших, что Достоевский в данном диалоге если и не солидаризуется напрямую с кровавым наветом, то, по крайней мере, допускает (устами Алеши) его истинность.
Упомянутый фрагмент из романа становится поводом для обширного и подробного обзора истории «кровавого навета». Центральное положение статьи — о позднем появлении «навета» в России и его западных, прежде всего польских, корнях — справедливо, хотя и абсолютно не ново. По существу, основная самостоятельная идея автора заключается в том, что «кровавый навет» в России несет на себе печать не только антисемитского, но и в значительной степени антисектантского дискурса. Власть, соглашаясь с тем, что в целом «кровавый навет» не имеет отношения к нормативному иудаизму, допускает мысль о существовании изуверских иудейских сект — по аналогии со многими сектами, существовавшими на периферии христианства.
Семен Резник. Запятнанный Даль: Кто автор книги «Записка о ритуальных убийствах»? Новое литературное обозрение, 2010, № 104
Резник продолжает доказывать, что одиозное сочинение «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их», изданное в 1844 году без имени автора, принадлежит перу не великого лексикографа В.И.Даля (как принято считать), а статского советника В.В.Скрипицына. Аргументы его кажутся не лишенными убедительности. Забавная примета эпохи: объектом полемики автора в данном случае становится анонимная статья «Википедии», в свою очередь полемизирующая с прежними публикациями Резника.
Леонид Кацис. Как «их» вписать в историю русской литературы? (Рецензия на кн.: Katz E.M. Neither with them, nor without them: the Russian writer and the Jew in the age of Realism. Syracuse, N.Y., 2008). Новое литературное обозрение, 2010, № 106
Отклик на книгу Елены Кац «Ни с ними, ни без них», посвященную «еврейскому вопросу» в творчестве Гоголя, Достоевского и Тургенева. Исследовательница, как кажется рецензенту, пытается «реабилитировать» русских классиков, доказывая, что если лично им и был свойствен антисемитизм, то это не повлияло на созданные ими образы. Такая позиция не представляется Кацису убедительной и внутренне честной, хотя ее внутреннюю мотивацию он понимает. «Идея очищения истории русско-еврейских отношений от анахронистических подходов, основанных лишь на травме Холокоста», — идея хорошая. Но…
Поляки и казаки имели многолетние счеты, где жестокость была взаимной. Евреи же позапрошлого века были совсем не похожи на сегодняшних израильских солдат, а следовательно, никак не могли постоять за себя (вооруженных евреев тогда в природе не было), иначе как оказывая услуги казакам или полякам и попадая при этом под «перекрестный огонь». Следовательно, ставить на одну доску поляков, казаков и евреев в данном случае невозможно…
Странное рассуждение — израильские солдаты «стоят» не за себя, а за государство. Как это соотносится с условным поздним средневековьем, художественно воссоздаваемым Гоголем? Правильный ответ: никак. Что вообще хочет сказать рецензент? Что к евреям русские классики относились не так, как к остальным «нежелательным другим», и не так, как их западноевропейские собратья? В чем именно его спор с автором? К сожалению, мысли сформулированы настолько путано, что рецензия не выполняет своей прямой цели — не сообщает хороша или дурна рецензируемая книга, сто́ит ее читать или нет. Свойственная Кацису темпераментно-сумбурная манера изложения менее всего подходит жанру рецензии.
Елена Аксельрод. …Просто скрывается солнце. Стихи. Континент, 2010, № 144
Стихи поэтессы, живущей в Израиле. Традиционная и грамотная (не хуже, чем у людей) лирика, посвященная по большей части детским впечатлениям 1940-х: Победа, нищета, школа, сталинская Москва. В последнем стихотворении — нынешняя жизнь, пейзажи Мертвого моря.
Адам Михник. Погром в Кельцах. Два размышления о своих грехах. Континент, 2010, № 145
Редакционная вводка провозглашает, что перед нами «пример и образец такого, на наш взгляд, духовного мужества, такой безоглядной нравственно-интеллектуальной честности, такой подлинно гражданской ответственности, каких и во всем мире, и, в частности, у нас, в России, при обсуждении многих не менее острых и болезненных феноменов нашего собственного национального самосознания, очень как раз не хватает».
Однако при чтении статьи возникает совершенно противоположное чувство. Описывая погром в Кельце, погром, направленный против выживших во время Холокоста, Михник пытается услышать обе стороны — и жертв, и убийц. Примерно так же, как Солженицын. Но — речь идет о событиях, связанных с Холокостом. И (не будет бестактностью упомянуть об этом) Михник — человек еврейского происхождения, хотя и ощущающий себя в большей степени поляком. Каково же читать в его статье:
…Для евреев самым существенным опытом был Холокост, для поляков — утрата свободы и независимости. Для евреев приход Красной Армии означал конец «эпохи печей», для поляков — начало новой волны репрессий и нового иностранного господства.
И что ж — это хотя бы в какой-то степени симметрично? Не говоря уж о том, что Холокост был таковым для всех без исключения евреев, в то время как значительная часть поляков (пусть и не большинство) приветствовала установление коммунистического режима, во всяком случае не воспринимала его как оккупацию. В данном случае Михник готов слышать лишь один голос — голос Армии Крайовой, антикоммунистической оппозиции, несмотря на присущий ей (что сам он признает) антисемитизм и прямое участие ее бойцов в уничтожении евреев. Он не забывает упомянуть о массовом наплыве выживших евреев в коммунистические органы власти, хотя установить прямую связь этого явления с кельцским погромом (мотивированным в лучших средневековых традициях — «похищением детей на Пасху») едва ли возможно.
Далее Михник мягко укоряет епископа Качмарека за его откровенно антисемитский доклад о трагедии в Кельце и восторженно хвалит другого епископа, Теодора Кубину, который вместе с городской администрацией подписал текст, осуждающий погром, — то есть сделал (и, возможно, не вполне добровольно) минимум того, что по общепринятым этическим нормам и даже по церковной традиции безусловно должен был сделать.
В целом статья знаменитого польского журналиста и политика производит впечатление тягостное.
Не только о Бродском. Юрий Колкер и Лев Лосев, переписка 1985–88 годов. Публикация Юрия Колкера. Новый Берег, 2010, № 30–31
Переписка двух поэтов и историков литературы (один из которых в 2009 году скончался) — интереснейший литературный и социально‑психологический материал. Затрагивается, само собой, и еврейский вопрос.
Составитель настоящего обзора впервые прочитал стихи Колкера в 1980-е в израильском журнале «Кинор». Подборка еврейского активиста и отказника завершалась стихотворением, уже начальная строка которого была вполне недвусмысленна: «Но в мире есть страна, где я не буду лишним…»
Тем интереснее четверть века спустя прочитать:
…еврейским активистом я стал почти поневоле (другого стилиста просто не нашлось), и по крови я не совсем еврей (а жена моя — совсем не еврейка), и об Израиле я чуть ли не до последнего момента вовсе не думал. Но получилось так, что проехать мимо в нашем случае было равносильно предательству. Судите сами, в мае 1984 из 11,000 ленинградских отказников, среди которых я волей-неволей был заметен, получила разрешение только одна семья — наша. За нашим маршрутом напряженно следили из Ленинграда, Израиля, Вены, США, Англии... Другим нашим мотивом было чувство благодарности. В Ленинграде мы были анекдотически бедны, а в последние 2–3 года, когда я работал кочегаром, жили буквально на сохнутовские посылки… <…> Здесь мы назвались евреями — и нам поверили на слово. В России же меня все равно никто не считал русским: ни советская власть (несмотря на паспортную отметку), ни даже собратья по перу из т. н. второй литературы, — как раз их изощренный (совсем не погромный) антисемитизм стал для меня решающим…
Интересно, кто из деятелей «второй литературы» персонально имеется в виду и в каких именно формах этот «изощренный антисемитизм» (или то, что Колкер счел таковым) выражался? Что до Израиля, то там поэт долго не задержался: ныне он проживает в Англии.
Подготовил Валерий Шубинский |
         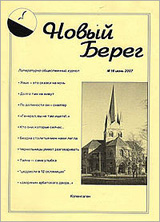 |


