|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 93 / Август 2011 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Александр Мелихов. Дрейфующие кумиры. Дружба народов, 2011, № 1
Цикл эссе о русских писателях XX века, в том числе и об Илье Эренбурге. Мелихов убежден (как и многие), что именно «гроссмейстерский ход» Эренбурга, написавшего известное письмо Сталину, весной 1953 года спас советских евреев. Учитывая, насколько неясен до сих пор историкам сюжет с планировавшимся (если действительно планировавшимся) насильственным переселением евреев и его отменой (если отмена действительно имела место), эта уверенность кажется излишне смелой.
Михаил Каганович. Жертвоприношенье речи. Стихи. Дружба народов, 2011, № 1
Банальные и напыщенные размышления, не слишком ловко зарифмованные. Еврейская тема возникает в связи с евангельской:
Ах, евреи! — кто бы помнил нас, когда Над губернией Давидовой звезда Не случись в ту ночь... — и, Господи прости, Через родовыводящие пути Сороканедельный Бог был не дан нам — Плод еврейский чрева Девы Мириам?..
Далеко не первая попытка принять христианскую картину священной истории, сохраняя еврейскую самоидентификацию. Но в данном случае вопрос о духовной плодотворности такой позиции даже не встает — больно уж стихи плохие.
Ну, и о Мандельштаме, конечно:
Он слишком русский был поэт Для столь тщедушного еврея.
Еще одна плоская сентенция…
Лев Аннинский. Какой ты мне бог… Дружба народов, 2011, № 3
Рассуждения о судьбах еврейского народа в связи с прозой Рады Полищук — как всегда выспренние, благонамеренные и основанные не на знании предмета, а на твердо усвоенных правилах того, какое пустое общее место следует произнести по тому или иному случаю. Вот, например, рассуждение о еврейской ономастике:
Нечто полуанекдотическое в этом, конечно, есть, но исходит юмор от самих евреев и светится — в русской ойкумене — даже и в самих фамилиях, произошедших от прозвищ. Откуда все эти Дворкины, Ривкины, Хенкины, Хавкины, Хайкины? А от ситуации, когда в лавочке сидит жена: Двойра, Ривка, Хана, Хава, Хая — а мужа местечко знает только по имени жены, за мощными плечами которой он сидит где-то в глубине дома и, раскрыв Тору, думает. А на смешную фамилию ему наплевать…
Все было, мягко говоря, не совсем так. И фамилия Ривкин не смешнее фамилии Аннинский (тоже, между прочим, матроним). В сущности, о высказываниях этого автора на еврейскую тему заставляет писать лишь педантизм — ничто другое уже не в силах подвигнуть рецензента отреагировать на этот нескончаемый поток добродушных глупостей.
Рада Полищук. Лапсердак из лоскутов. Два фрагмента новой книги. Дружба народов, 2011, № 6
Удивительное сочетание сентиментально-мелодраматических сюжетов, неловких попыток изобразить «настоящую жизнь» и выспренне‑претенциозного стиля. Оба отрывка — о евреях (социальный диапазон широкий — от профессора медицины и дизайнера до служителя еврейского кладбища). Вся книга, судя по названию, тоже.
Роман Перельштейн. День флага. Маленькая повесть. Новый мир, 2011, № 1
Крепкая и качественная проза как бы ни о чем. То есть — о матери-балерине, о трудной любви к ней, о бесчисленных еврейских родственниках, о тете Рае и тете Белле, о дедушке, закончившем войну в Японии, о завуче старших классов Саре Абрамовне, тоже оказавшейся дальней родственницей, о двух трагически погибших Олегах: первый — в семилетнем возрасте попал под машину, у второго совсем уж дикая смерть — в израильской казарме упал во сне с койки второго яруса и ударился головой... Но все-таки повести не хватает внутреннего образного стержня. Одних элегических воспоминаний о семейной истории в данном случае недостаточно. Впрочем, может быть, перед нами — фрагмент большой «саги»?
Юлия Винер. На воздушном шаре туда и обратно. Повесть. Новый мир, 2011, № 5
Фантастический рассказ русско-израильской писательницы: путешествие старушки (тоже репатриантки из России) в свое прошлое. Написано на средне хорошем профессиональном уровне. Вот любопытный диалог героини с первым мужем:
— Она (мать героини. — В.Ш.) сказала, ты и замуж за меня решила выйти главным образом потому, что я русский, не еврей. — Она тебе это сказала? Странно, откуда она... — Значит, правда? — Ну, предположим. И это плохо? — Плохо, хорошо... Кому это охота быть не мужем и другом любимым, а всего лишь инструментом обрусения? Вот тогда я и почувствовал окончательно, что ты для меня чужая. Чужая и малосимпатичная женщина.
Тамара Лазерсон-Ростовская. Записки из Каунасского гетто. Новый мир, 2011, № 5
Дневник тринадцати–пятнадцатилетней девочки. Автор предисловия предсказуемо сравнивает ее с Анной Франк. В отличие от своей амстердамской сверстницы, Тамара выжила, но — с другой точки зрения — дневник она вела в более жуткой ситуации, на самом краю могилы.
Цитаты говорят сами за себя — и о внешних обстоятельствах, и о девочке, которая их фиксировала:
Я благодарю Бога, что у меня есть книги. Когда кругом свирепствует осень, я сижу, съежившись, в комнате и читаю свое богатство — Детскую энциклопедию. Стоит только углубиться в эту книгу, и ты забываешь об осени, голоде и холоде. Ты забываешь обо всем. Перед тобой открывается все то, что пережили и выстрадали люди, изобретая разные новшества: машины, книги и др. <…> У ворот проверяет еврейская полиция. Литовцы все пропускают, только евреи сами отбирают. Люди очень возмущаются таким поведением. По ночам через забор идет торговля. Часовые подкупаются, поэтому они «ничего не видят». Наше положение понемногу улучшается. Продаем последние вещи. Что будет дальше — не знаю. На фронте бои идут все еще у Сталинграда. <…> Политические новости тоже хорошие. Немцы изгнаны из Африки, им предложен мир. Геринг и Геббельс отправились в Рим. Ждем, ждем свободы, сердце бьется сильнее в груди. Может быть, через неделю отворят, откроют ворота тюрьмы. Жди меня, Родина дорогая, я скоро буду. Еще немного, и тогда я твоя, о Эрец-Исраэль! <…> Вчера приезжала… экскурсия — гитлерюгенд. Они приехали посмотреть на работающих евреев, как будто в зоологический сад. Для них это развлечение. <…> Йом-Кипур. Решила поститься. Ощущение неприятное. Вытерпела со вчерашнего вечера — 5 часов до сегодня 5 часов. Только с утра сильно «сосало». Весь день пробыла в гостях. Ничего. Несколько дней можно и поголодать, но только при условии, если после этого дадут хорошо поесть. Bcе постились и молились, может, Бог выслушает их молитву. Фронт приближается, занят Невель, это в 20 километрах от латвийской границы. Люди сильно озабочены. В Каунас прибыло 800 эсэсовцев. Полагаем, чтo хотят нас прикончить. <…> Акция. 1500 малых детей и старых людей вывезены на форты. Сорок еврейских полицейских кончили свою жизнь на IХ форте. Других продержали несколько дней и за сообщенные сведения освободили. Многие убежища обнаружены. Погибло молодое поколение — дети до 12 лет, погибли старики, погибнем и мы.
Михаил Горелик. Тряпичная кукла с порселановой головой. Новый мир, 2011, № 5
Рецензия на мемуарную книгу Леи Трахтман-Палхан, в 1931 году приехавшей в СССР из Палестины, а в 1971-м эмигрировавшей из СССР в Израиль. В промежутке была еще и поездка на Землю обетованную по туристической визе — редчайший случай! Поездкой этой Лея оказалась обязана именно тому человеку, который некогда сманил ее в страну победившего социализма, а человек этот — не кто иной, как Леопольд Треппер, легендарный разведчик, «капельмейстер» «Красной капеллы». Рецензент, двадцать лет назад прочитавший книгу в рукописи, откровенно любуется автором — ее жизнестойкостью, наблюдательностью… и даже неправильным, но живым и своеобразным русским языком.
Ирина Уварова-Даниэль. Не оглядывайся! Главы из книги. Звезда, 2011, № 1–2
Воспоминания вдовы Юлия Даниэля, проникнутые ностальгией по 1970–1980-м годам, когда все было так хорошо и просто: с одной стороны — подлая «Софья Власьевна», с другой — противостоящие ей все-хорошие-люди. Конкретных подробностей в опубликованных главах немного. Например:
…связь с театром устанавливалась не простая зрительская, а кровная. В ГОСЕТе (Государственном Еврейском театре) ставили пьесу его отца, Марка Даниэля, «Соломон Маймон». Соломон — Зускин, Михоэлс — постановщик. Декорации Фалька. Другим кровным театром был Центральный детский, там шла другая пьеса отца, «Изобретатель и комедиант». Как-то мы оказались в этом театре. Юлий рассказал режиссеру Алексею Бородину, сколько раз он ходил на этот спектакль и как чудесна была Агнесса, канатная плясунья, играла ее Коренева. Нам показали летопись театра, автором «Изобретателя» значился Михалков. По ошибке, конечно. Только писательская судьба знает подобные ошибки: имя Марка Даниэля исчезло из поля зрения, как не бывало. Он умер, не успев разделить кровавую участь своих товарищей. Когда же начали всплывать из небытия имена убитых еврейских писателей, память о Марке Даниэле наглухо перекрыло скандальное судебное дело сына.
Сын еврейского писателя, сам — русский писатель, добровольно или принудительно печатавшийся под «славянскими» псевдонимами (до 1965-го — Николай Аржак, после 1970-го — Ю.Петров), Юлий Даниэль «не чурался своего еврейства, не кичился им, просто не размышлял в этом направлении». Важная деталь: он «пропустил» (то есть провел соответствующие годы в заключении) поворот в национальном самосознании советского еврейства. «За пять лет до того мы о национальности если и говорили, то иначе, когда дело шло о процентной норме, о приеме в институт, о работе…» А тут заговорили — в связи с возможностью эмиграции. Но Даниэль уезжать не захотел… А других нитей, связывающих с народом предков, в его случае, видимо, не нашлось.
Михаил Эпштейн. Жизнеутверждающий пессимизм: о Книге Екклесиаста. Звезда, 2011, № 1
Московский философ и культуролог, ныне работающий в США, завершает цикл размышлений о библейских книгах. Предыдущие статьи были посвящены «Книге Иова» и «Песни песней». Эпштейн обращает внимание на полярную противоположность Иова и Екклесиаста: взыскующий справедливости страдалец и пресыщенный царь-мудрец. И тем не менее «вторая книга развивает парадоксальную теологию первой. <…> И Книга Иова, и Книга Екклесиаста зовут человека вернуться к Древу жизни — прочь от Древа познания добра и зла. Человек не знает и не может того, что знает и может Господь, поэтому человеку остается только принять творение и участвовать в нем, одновременно и вопреки и благодаря своему непониманию его законов и бессилию их изменить».
Марк Зайчик. И спать хочется, и Родину жалко. Рассказ. Звезда, 2011, № 2
В 1990-е годы давний репатриант встречает в Иерусалиме малоинтересного ему приятеля юности, под впечатлением этой встречи начинает вспоминать других знакомых той поры и испытывает подобающий прилив сантиментов. Очередной рассказ мастеровитого беллетриста.
Дёрдь Шпиро. Неволя. Глава из романа. Звезда, 2011, № 3
Глава из исторического романа венгерского писателя. Действие происходит в эпоху Иисуса. Кроме евангельских персонажей, в романе действуют Филон, Калигула и многие другие реальные лица. Главный герой — еврей по имени Ури. Как сказано в редакционной аннотации, «автор ввел в свой роман огромный исторический материал — ничуть не в ущерб художественности». В опубликованной главе, однако, художественности, увы, немного. В описаниях и диалогах старательно излагаются и комментируются подробности жизни Иудеи I века н. э., которые писатель, судя по всему, действительно глубоко изучил.
Агнеш Хеллер. Можно ли писать стихи после холокоста? Звезда, 2011, № 3
Еще одно риторическое упражнение на тему известного высказывания Адорно — с вполне ожидаемым выводом: «Молчание, окутывающее Освенцим, постоянно надо нарушать. С помощью философии, истории и, конечно, поэзии. Об Освенциме надо писать стихи — даже если мы тем самым не можем помешать повториться чему-то подобному. Если мы никогда не забудем Освенцим, если всегда будем держать его в уме, если сохраним его в нашей памяти, в рассказах и песнях, то, даже будучи не в состоянии помешать появлению чего-то похожего на Освенцим, мы сумеем исключить нечто другое».
Деталь: слово «холокост», в отличие от слова «Освенцим», на протяжении всей статьи пишется со строчной буквы, лишь в самом конце, один раз, видимо случайно, — с заглавной. Уж не знаю, кого винить в этих «орфографических играх» — автора? переводчика? редактора? корректора? Но очевидно: «холокост», низводящий Холокост до частности, обыденности, повседневности, находится в полном противоречии со всем пафосом статьи венгерского философа.
Игорь Голомшток. Воспоминания старого пессимиста. Знамя, 2011, № 2–4
Записки бывшего советского искусствоведа, долгие годы живущего на Западе. Много ярких деталей, начиная с семейной истории (предки по отцу — богатые крымские караимы, по матери — лихие сибирские евреи, помнящие из идиша только «азохенвей», «калтен коп» и «куш мир ин тохас», а за преферансом, под строганину и пельмени, способные выпить полведра водки). Детство на Колыме (мать и отчим завербовались добровольно!). Послевоенные годы, антисемитская кампания начала 1950-х, открытие для себя модернистского искусства, работа в ГМИИ имени Пушкина, общение с Аверинцевым, Синявским, Александром Менем (экуменизм последнего вызывал у Голомштока симпатию — при том, что себя он определяет как «иудеоагностика»). Затем — неприятности с КГБ и наконец эмиграция (в 1972 году). Интересная подробность: увольнявшегося в связи с подачей заявления на выезд Голомштока директор музея конфиденциально попросила не распространять за границей информацию «о хранящихся в секретных запасах музея художественных ценностях, награбленных во время войны из немецких собраний». Еще интереснее реакция мемуариста: «Я обещал и слово сдержал».
Святослава Кожухова. Любовь и ножницы (рец. на роман «Крайний» Маргариты Хемлин). Знамя, 2011, № 2
Странная рецензия. Критик подробно и простодушно пересказывает роман, а завершает это изложение так: «Нисл Зайденбанд со своей колоритной местечковой речью и простонародными попытками философствовать — из тех героев, которые говорят не словами. Но какой смысл в его жизненном пути, во всем этом барочном нагромождении неумолимых обстоятельств и страшных случайностей, тоже трудно понять. Может, смысл в том, что нет смысла. Но это почему-то не умаляет достоинств романа».
И, почувствовав, что этого, пожалуй, мало, добавляет: «Романы без тенденции не заставляют читателя думать — скорее, сочувствовать, удивляться, недоумевать».
Первая часть этой максимы звучит, прямо скажем, смело.
Михаил Юдсон. Зона Оз. Рассказ. Нева, 2011, № 3
Рассказ тель-авивского писателя — в первую очередь, конечно, стилистический эксперимент. Библейский мир описывается языком концентрированно российским — и притом насквозь цитатным и подчеркнуто эклектичным, соединяющим все уровни и все хронологические пласты русской культуры.
Бор глаголет: — Сорвать, глядь, с насиженного места сурьезных оседлых людей — врачей, трубачей… тьфу, скрипачей, со смыком… толкователей снов, носителей опахала, выдающихся корчмарей, крупных лавочников, главных икономистов, инженеров-вытесывателей, конструкторов саркофагов — и потащить в пески… «Бросай свое дело!» Легко сказать… Поход доходяг! Голодуха, бездорожье. Надо — назад, к очагам и корчагам! — Да-а, сменяли козу на двугорбого — длинношеее ездовое, — вздыхая, вступает Ар. — А ведь я был в духе в день воскресный, когда мы вышли со двора, из края снежных пирамид, от изжог тех пиров под помостом с обязательной пощечиной на Пасху… Думал: а вдруг?! Прощай, немытая стихия — избы бедные и лавки грязные!.. Покинем Египлаг, откинемся — и надыбаем дивный новый мир, град без луж, вексель-моксель, и без тихого ужаса. Сбежим с правожительства — к кисейным барышам. И рудники там с нашим удареньем, и золото той земли хорошее. Смотаемся от рутины, мечтал… Сделаем «зеленые ноги» желтым звездам понизовья… Рванем прильнуть к истокам! Там ждут болдох — бдолах и камень оникс… Кофейники, молочники и прочее тевье… Рахели носят вина, а Леи в соболях…
Метафора, в общем, ясна. И сделано искусно — не то слово. Но, пожалуй, с некоторым перебором, с соскальзыванием чуть ли не в капустник.
Петр Мейлахс. Отдавая «родине» должное. Нева, 2011, № 3
В основном, эта этносоциологическая статья посвящена сложной истории турок-месхетинцев, но ее вступительная часть носит характер общеконцептуальный. Автор полемизирует с некоторыми современными теоретиками, для которых «территориальность определяется через понятие “территории” и политического контроля над ней, а концепция “родины” служит лишь идеологическим прикрытием». В качестве примера, опровергающего эти концепции, приводится крах злополучного «плана Уганды», который Герцль выдвинул на 6-м сионистском конгрессе, едва не расколов этим движение своих сторонников. Сионисты в большинстве своем «мечтали именно об исторической родине Эрец Исраэль, а не об абстрактной территории, на которой можно было бы построить политически независимое еврейское государство». Идея исторической родины, по мысли Мейлахса, не может быть искусственно сконструирована национальной элитой в соответствии с собственными практическими интересами.
Иржи Вайль. На крыше Мендельсон. Главы из романа. Нева, 2011, № 5
Посвященный теме Холокоста роман чешского писателя был впервые опубликован в 1960 году. В первом из отрывков — гротескный эпизод: с крыши оперного театра приказано сбросить статую Мендельсона, но многочисленные статуи композиторов, как назло, не подписаны. «Жида» пытаются вычислить по длинному носу и в результате чуть не сбрасывают Вагнера.
Лев Тимофеев. «Сестры — тяжесть и нежность…» К 100-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова. Октябрь, 2011, № 1
Сочетание названия статьи и подзаголовка производит впечатление парадоксальное. Анатолий Рыбаков, автор «Кортика», «Екатерины Ворониной», «Детей Арбата» и проч.— и Мандельштам? Оказывается, связь есть. Название прозвучавшего в свое время романа «Тяжелый песок» действительно взято Рыбаковым из Мандельштама (по подсказке жены), причем это не прямая цитата, а контаминация мотивов — из четверостишия, где присутствуют и «тяжесть и нежность», и «песок остывает согретый».
Впрочем, эта деталь, заимствованная из чужих мемуаров, — единственное интересное место восторженно-банальной статьи. Книги Рыбакова (в том числе и «Тяжелый песок») стали заметными общественными событиями 1970–1980-х. Нелепые восторги — вроде: «Первая встреча Якова и Рахили на прокаленной солнцем пустынной песчаной улице южного городка — эти тридцать строк текста — одна из вершин русского литературного эроса» — едва ли способствуют пониманию творчества писателя и его эпохи.
Давид Маркиш. Тубплиер. Роман. Октябрь, 2011, № 4–5
Советская «Волшебная гора». Это, конечно, шутка, но… Сюжет такой: в начале 1960-х молодой писатель Владислав Самойлович Гордин заболевает туберкулезом и оказывается в лечебнице на Кавказе. Там он общается с многообещающе брутальными местными горцами и с товарищами по санаторию. С ними он создает дурашливый орден «тубплиеров» — по образцу тамплиеров. Орден привлекает внимание КГБ, «тубплиеров» досрочно выписывают. Собственно, всё.
Текст получился живее и многомернее, чем в большинстве прежних произведений Маркиша. Даже философические сны об Иисусе, которые время от времени видит герой, почти не портят дела — они в достаточной степени абсурдны. Все было бы хорошо, будь материал, на котором написан роман, совершенно фантастическим или глубоко экзотическим. Однако это не так. Живущий в Майкопе критик Кирилл Анкудинов обнаружил в романе горы «развесистой клюквы» в изображении Кавказа и его обитателей (подробная публикация об этом появилась в одном из интернет-изданий). Петербуржцу судить трудно, однако верится легко: вспомним, как описывал Маркиш, к примеру, эпоху Петра Великого в «Шутах». Подобный способ обращения с реальностью простителен гению, способному придумать мир, который интереснее настоящего. Но, увы…
Борис Минаев. Герман Бродер — кто он такой? Октябрь, 2011, № 5
Маленькое эссе о спектакле московского театра «Современник» по роману И.Башевиса Зингера «Враги. История любви» (постановка израильского режиссера Евгения Арье). В центре внимания рецензента — фигура главного героя: «Думаю, это человек, который доказывает всемирной истории, всем ее диктаторам и “проектам”, всем ее революциям и войнам, всем ее смыслам и конфликтам, переделам и передрягам, что их усилия напрасны. Человек все равно все выдержит. Он выдержит и терроризм, и новую войну цивилизаций, и десятки волн эмиграций, и смену политических режимов, и геноцид. Он выдержит». Про множество героев множества книг и спектаклей можно сказать что-то в этом роде.
Александр Хемон. Проект «Лазарь». Роман. Иностранная литература, 2011, № 6–7
1908 год. Чикаго. При странных обстоятельствах гибнет Лазарь Авербах, молодой рабочий, эмигрант из Кишинева, переживший там знаменитый погром, а в Америке посещавший собрания анархистов. Полиция избивает знакомых Лазаря и подвергает психологическому террору его сестру, анархисты провозглашают его мучеником, благонамеренные чикагские евреи в страхе стараются от него отречься. А тут еще и тело несчастного юноши исчезает из могилы…
Таков сюжет книги, которую сочиняет в наши дни писатель Владимир Брик. Он, как и сам Хемон, — выходец из Боснии, но не мусульманин, не серб и не хорват, а потомок переселенцев с Украины, мизантроп и скорее даже богоборец, чем атеист, — распятого Иисуса именует «гимнастом»!
В процессе написания книги Брик пытается вернуться к истокам своего героя, в обратном порядке повторяя его путь в Америку: Черновцы — потом Кишинев… Зачем? Что осталось там от жизни невоскресающего Лазаря? Посвященный погрому зал в еврейском музее? Кладбище, на котором лежат все Авербахи? Симпатичная Юлиана, оказавшаяся дальней родственницей Лазаря?
Или — тот воздух жестокости и опасности, который боснийцу Брику хорошо знаком. Вот что говорит он про свою жену, американку и католичку: «Она была не в состоянии правильно понять природу зла, так же как я — понять принцип работы стиральной машины или почему вселенная расширяется до бесконечности. По мнению Мэри, всеми нами движут благие намерения, а зло возникает, только когда эти намерения нечаянно забываются или умышленно игнорируются». Но только взглянув злу в лицо, ему можно понемногу противостоять. И тут в одном ряду оказываются воспоминания Юлианы про деда, штурмовавшего рейхстаг («единственный еврей в батальоне»), и поступок Владимира, не без риска освобождающего в финале романа молдавскую девушку, которую похитили, чтобы отправить на панель.
Впрочем, книга Хемона свободна от дидактического пафоса. Антропологическая честность и внутренняя достоверность делают ее одним из наиболее значительных произведений новейшей американской литературы.
Семен Резник. Зачем же снова пятнать В.И.Даля? Новое литературное обозрение, 2011, № 107
На сей раз Резник полемизирует со статьей А.А.Панченко «К исследованию “еврейской темы” в истории русской словесности: сюжет о ритуальном убийстве», опубликованной в одном из предыдущих номеров журнала. Аргументы публициста, давно доказывающего непричастность великого лексикографа к составлению одиозного антисемитского сочинения, может быть, звучали бы убедительней, если бы он вкладывал в свои труды по этому вопросу меньше страсти. Похоже, им движет не столько холодный поиск истины, сколько стремление «реабилитировать» выдающегося человека.
Подготовил Валерий Шубинский |
       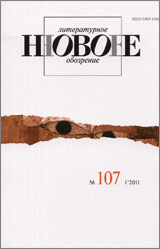 |


