|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 99 / Август 2012 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Ася Векслер. Стихи. Звезда, 2012, № 1
Очень добротная «ленинградская» лирика на израильском материале. Иерусалимский закат сравнивается с Рерихом, Куинджи, Рокуэллом Кентом (характерный массово-шестидесятнический вкус!). Левантийскую цикаду слышит ухо, натренированное на бесчисленных цикадах русской лирики (от Анакреона в переводе Ломоносова до Мандельштама), — и слышит хорошо, передает звучно и тонко:
Возможно, что вклинится меж новостей пристрелка цикадных очередей и то, как одной из них вроде пунктира прошита насквозь квартира.
В ней мало шагов от окна до окна. Зато вдруг проклюнулась глубина. Там бросили жребий. Там выбрана дата. Осада. Масада. Цикада.
Юлиан Фрумкин-Рыбаков. Стихи. Звезда, 2012, № 4
Мягкие, простые по структуре, живые по интонации стихи. Портит их, пожалуй, стремление освоить — не слишком ловко! — современные реалии («На сайте неба виден блог с посланьем птиц из Пензы в Пизу»). Первое стихотворение подборки посвящено Шагалу и представляет собой каталог подобающих случаю банальностей (скрипочка, еврейская грусть, перемешанная с весельем, лапсердак и проч.) — а финал просто пародиен:
Я б хотел, как Марк Шагал — чтобы я… шагал, шагал…
Елена Невзглядова. Афины и Иерусалим в русской поэзии. Звезда, 2012, № 4
Тема огромная и, конечно, не для краткой журнальной статьи. Можно оценить смелость критика. Как же подходит он к столь масштабной задаче?
Сначала — старательный (пусть несколько путаный) пересказ знаменитой книги Шестова. Потом — рассуждения о природе поэтического мастерства «вообще»:
Монотонно-ритмическое произнесение, записанное в стиховых столбиках, дает возможность зафиксировать на письме момент устной речи — интонируемый смысл. Для того чтобы прозаическая фраза в прямой речи персонажа прозвучала печально, прозаику приходится сделать соответствующую ремарку: «грустно сказал он», что-нибудь в этом роде. <…> А в стихах интонация обусловлена сочетанием ритма (метра) с лексико-грамматическим содержанием.
Как же одно связано с другим? А вот как. «Афинское» начало в поэзии — это начало рациональное, логическое. «Иерусалим» — это лирическая интуиция. У нравящихся Невзглядовой поэтов (Тютчева, Баратынского, Мандельштама, Александра Кушнера) эти два начала находятся в равновесии. У не нравящихся (например, символистов) — нет. Собственно античные или библейские мотивы и аллюзии критика не интересуют, как и дихотомия ветхозаветного и новозаветного начал.
Схематично? Разумеется. Но и схема может быть хорошей отправной точкой для серьезного размышления о проблемах поэтики. К сожалению, до такого разговора дело не доходит. Статья написана несколько сбивчиво — автор то уклоняется в сторону, то бросает мысль на полуслове. Может быть, это растерянность перед необъятностью избранного предмета?
Борис Парамонов. Поездка на родину. Стихи. Звезда, 2012, № 5
Философ и эссеист, с 1978 года живущий в США, на старости лет начал писать стихи — энергичные, злые, складные до излишества, со множеством культурных отсылок, часто иронических. Филологическая поэзия в том роде, которым знаменит Лев Лосев… но местами чуть ли не лучше, чем у последнего.
В числе книг Парамонова — «Портрет еврея» (про Эренбурга). Еврейская тема изредка возникает и в его стихах:
Ты не важная птица, скорей ты не птица, а только яйцо, мальчик Мотэле, птичка-еврей, на чужое подкинут крыльцо.
Ирина Рашковская. Фатер наш на химмеле! Рассказ. Дружба народов, 2012, № 3
Русский (вероятно, русско-еврейский) житель Германии по фамилии Львович едет к подруге зайцем — в туалете поезда. Этому его научил друг, сумасшедший творческий человек Петя. Коротая дорогу, Львович читает в туалете книгу Дмитрия Быкова «Пастернак» и размышляет о своей эмигрантской доле. На случай, если поймают контролеры, у Львовича есть справка от психиатра, но контролеры так и не появляются… Собственно, это весь рассказ. Почему-то жизнь русских в Германии считается каким-то выигрышным материалом, на котором можно без конца писать «малую прозу» — практически без сюжета и особых стилистических находок. На самом деле материал, как правило, бедноватый (не в пример русско-израильскому и русско-американскому): что можно извлечь из жизни эмигрантов, годами существующих на социальное пособие и не торопящихся адаптироваться в стране пребывания? Зато у людей, владеющих этим материалом, часто много досуга для литературного творчества… А журналам, похоже, иногда надо чем-то заполнить место.
Алексей Колобродов. Кубик Рубика и славянская душа Зеерсона. Рассказ. Дружба народов, 2012, № 6
Тема — провинциальная политическая жизнь. Политтехнолог объясняет кандидату в депутаты по фамилии Зеерсон — чтобы выиграть выборы в рабочем районе, надо доказать, что ты хоть и Зеерсон, но «с русскою душой»: «Делать ничего особо и не надо — мотаться по кабакам, с девками иногда палиться… Можно разок в ментовку попасть… Все это сливаем в прессу и даже на ТВ. Народ думает — ага, какой он на хер еврей, он мал, как мы, мерзок, как мы, и даже хуже, чем мы... Потом свечки, попы, грешить-каяться. Привезем в поддержку какого-нибудь самого русского певца. О! Кобзона!..»
Политтехнолог оказался халтурщиком: выборы Зеерсон проиграл.
Из Книги Псалмов. Перевод с древнееврейского А.Э.Графова. Иностранная литература, 2012, № 3
Переводчик — один из ведущих представителей школы «динамического» (небуквального) перевода Библии. По его словам, «эта парадигма имеет целью создать художественный текст, а не кальку или подстрочник; такие переводы стремятся также отражать новейшие достижения лингвистической и исторической науки». О научной адекватности судить не можем. А вот с художественностью выходит не слишком. Для примера — начало Псалма 3 в Синодальном переводе:
Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня; Многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге».
А вот переложение Графова:
Господь! Как много у меня врагов! Многие против меня поднялись. Многие говорят обо мне: «Бог его не спасет».
Выражения, восходящие к буквальному, подстрочному переводу древнееврейского текста Библии, через греческий и церковнославянский вошли в русский язык, составив его «высокий» стилистический слой. Ученый, переводящий Библию на нейтральный современный язык, игнорирует эти нюансы.
Григорий Рыскин. Безумный гений Бобби Фишера. Иностранная литература, 2012, № 3
Старательный пересказ книги Фрэнка Брэди «Эндшпиль. Удивительные взлет и падение Бобби Фишера: как величайший американский вундеркинд дошел до грани безумия», изданной год назад в США. Рыскин сравнивает шахматиста то с набоковским Лужиным, то с сэлинджеровским Холденом Колфилдом. Между прочим отмечается, что, «несмотря на его гнусные юдофобские эскапады, Фишер все-таки — порождение Народа Книги».
Леонид Гиршович. О вечной старости. Иностранная литература, 2012, № 3
Эссе Гиршовича — лучше, тоньше его романов. Работает интонация… Вот и в этом коротком тексте главное — сам голос, а уж о чем он там говорит, по большому счету, вторично. О движении времени. О нежелании стоять на переднем краю цивилизации. О Востоке, соблазненном Западом и имитирующем Запад. И о себе, конечно: «Я подделываюсь то под Вальтера Беньямина, то под Набокова, то еще под какого-нибудь эмигранта. Вся моя жизнь — музей подделок. Есть категория людей, вечно опаздывающих. Я вечно опаздываю, не сильно, на каких-нибудь два поколения…» Вальтер Беньямин представляется писателю в момент его самоубийства на франко-испанской границе, при неудачной попытке уйти от нацистов («Назавтра группу беженцев пропустили…»).
Ян Карский. Мое свидетельство миру. История подпольного государства. Главы из книги. Иностранная литература, 2012, № 5
Ян Карский (Козелевский) до войны мечтал стать дипломатом. И действительно стал им — но очень необычным: тайным посредником между эмигрантским правительством Польши, движением Сопротивления внутри страны и чиновниками стран-союзников. Для перевода выбрано несколько глав из его знаменитой книги «Story of a Secret State» («История подпольного государства»), впервые опубликованной в 1944 году, — в том числе те, в которых Карский описывает посещение Варшавского гетто и лагеря уничтожения в Белжеце. Многие участники польского Сопротивления равнодушно (по меньшей мере) относились к уничтожению евреев. Но были и такие, как Карский, — способные услышать отчаянный голос обитателей гетто, готовые, рискуя жизнью, пробраться в самый ад и донести свидетельство оттуда до правительств демократических стран. Увы, свидетельство это натолкнулось на стену непонимания и на откровенное нежелание действовать: «Английская и американская разведки превосходно знали, что происходило с евреями. Наверняка они им сочувствовали, переживали, даже жалели их — но это была лишь второстепенная проблема, не имевшая никакого военного значения». Правда оказалась не нужна руководителям демократических держав — так же как и товарищам Карского по польскому подполью.
Александр Секацкий. Израильские заметки. Новый мир, 2012, № 1
Текст состоит, с одной стороны, из туристических записок о Земле обетованной (стандартный набор: навязчивые арабы-торговцы в иерусалимском Старом городе, девушки с автоматами, библейская природа), с другой — из суховатых философических рассуждений о проблеме обетования, перебиваемых время от времени приблизительными цитатами из русских поэтов (строки Плещеева, приписанные «то ли Некрасову, то ли Никитину», перевранный Игорь Холин).
Секацкий — русский философ, человек правых, «имперских» взглядов. Ему нравится, что израильская военщина заставила-таки арабов знать свое место на Святой земле — не то что, скажем, во Франции. Но почему же, спрашивает он, русские израильтяне, голосующие за Авигдора Либермана, проявляют непоследовательность и требуют от России «отпустить Чечню»?
Нравится Секацкому и положение, которое занимают в Израиле религиозные ортодоксы (всех их он называет «цадиками», включая чуть ли не малых детей, хотя оговаривается, что знает о неправильности такого словоупотребления, — представим себе посещающего Россию иностранца, который всех прихожан православной церкви в путевых записках именует «архиереями», потому что слово, дескать, красивое). В самом деле: ортодоксы получают пособия от государства, не служат в армии, жены их опять же уважают… «Я подумал, что эти цадики — своего рода авангард и что когда-нибудь подобных прав, возможно, добьются и свободные художники, бескомпромиссные представители арт-пролетариата, класса, на наших глазах формирующегося и обретающего самосознание». Наверное, философ шутит, но все равно как-то… странно.
Александр Мелихов. Гении против сепаратизма. Новый мир, 2012, № 1
Исходной точкой для размышлений писателя служит классический труд британского историка Эли Кедури «Национализм», вышедший по-русски два года назад. Вслед за автором книги Мелихов рассматривает историю этнократической идеологии — со времен Гердера и Фихте. Он подчеркивает: обожествление «национального духа», выражением которого видится язык, всегда неминуемо вело к агрессивной ксенофобии — в том числе к антисемитизму. «Шарль Моррас печатно уверял, что ни еврей, ни семит (?) не могут овладеть французским языком так, как им владеет настоящий француз». Заметим, что и в России в 1910-е годы писателей еврейского происхождения (в том числе молодых Пастернака и Мандельштама) порой упрекали в «отсутствии органического знания русского языка».
Этнонационализму Мелихов противопоставляет «хороший» имперский дух британско-американского образца, делающий упор не на этничность, а на государственные институты, и вовлекающий в свою орбиту представителей разных этносов: «Отделяясь от империй, малые народы не укрепляют, но ослабляют свою экзистенциальную защиту, не укрепляют, но ослабляют свою историческую субъектность — оказываются еще дальше от исторического творчества, от возможности оставить бессмертный след в истории». Предпосылки «хорошего» имперского развития писатель, судя по всему, видит и в современной России. Что ж, оптимизм — свойство ныне дефицитное и потому ценное.
Александр Мелихов. И нет им воздаяния. Роман. Новый мир, 2012, № 2–3
Пожилой неудачник слышит во сне голос отца, который просит отомстить следователю, сломавшему ему жизнь во время сталинского террора. Отец — еврей, следователь, Григорий Залманович Волчек, — тоже. Отомстить Волчеку можно только морально: следователь и сам был расстрелян несколькими годами позже. Но герой романа пытается найти его потомков и родственников, заодно вспоминая собственную родословную. Биографии персонажей — Каценеленбогенов, Волчеков, Ковальчуков, Воробьевых, Терлецких… Кого там только нет! Академик, герой соцтруда. Художник. Незадачливый диссидент. Бездарный, но самоуверенный писатель, ставший «политологом». Пьющий инженер-кораблестроитель. Уголовник. Сцены из их жизни, встающие под пером Мелихова, порою достойны Свифта.
Но роман — не сатирический. Скорее — роман идей. Автор вместе с героем пытается осмыслить советскую эпоху. Осмыслить с той позиции, которая еще недавно казалась герою романа немыслимой: «Как же надо было потрудиться победившему лакейству, чтобы мне — МНЕ! — полуеврею и отщепенцу, в кошмарной Совдепии стала мерещиться какая-то поэзия!» Сейчас герой-рассказчик презирает «благородную интеллигенцию» — презирает за лицемерие и интеллектуальные стереотипы. И сердится, что «еврейская аристократия» позволила себе без остатка раствориться в этом слое. (Ну, насчет «аристократии» — сложный вопрос. Сейчас у нас на кого ни посмотришь — все метят в «аристократы», что, между прочим, тоже высмеяно в романе…)
Что касается злодея-энкавэдэшника Волчека, то вот какая правда о нем выясняется: оказывается, он был блестящим, подающим надежды ученым, пока его не «призвали» в органы. «Он был бы великим человеком, а его сначала изнасиловали, а потом убили», — с печалью говорит о нем брат-академик. Та ли это правда, которую должен осознать и высказать герой? Или же правда выглядит несколько иначе? Например, так: «…он и впрямь был из ласковых палачей, уговаривал признаться для своей же пользы. Ну и кто развешивал уши, тех расстреливали».Или так: «…дедушка Гриша тоже был добрым, порядочным человеком. Насколько это было возможно».
Окончательного ответа нет. Реальность оказывается слишком сложной. Это — похвала роману.
Михаил Бродский. Мама, нас не убьют… Воспоминания. Новый мир, 2012, № 5
На фоне других текстов, посвященных Холокосту и сталинскому террору, этот поражает сочетанием ужаса происходящего со спокойным благополучием бытового фона. До войны — комната в бельэтаже, Жюль Верн, Гауф, «Три толстяка», мама и папа — известные одесские адвокаты (правда, родители не женаты, у отца другая семья). В дни румынской оккупации мальчик и его мама ненадолго оказываются в тюрьме — но их выручают и дают им приют друзья, семейство врача, такое же почтенное, благополучное, респектабельное. В этой истории нет ни лагерных вшей, ни голодных будней гетто (продуктовое изобилие оккупированной Одессы контрастирует с тем, что вспоминают о военном времени, допустим, харьковчане или жители российского Нечерноземья).
Тем не менее почти все гибнут. Дедушка и бабушка кончают с собой. Маму все-таки расстреливают (перед этим ее еврейское происхождение устанавливается в ходе состязательного судебного процесса!). Отца вроде бы спасает то, что в двадцатые годы он защищал в суде православных иерархов (понятно, что такое могло сыграть хоть какую-то роль лишь при румынах, но не при немцах). Зато после войны его арестовывает НКВД — за сотрудничество с оккупантами, по существу — за то, что подозрительным образом выжил. Старшего брата призывают в армию, и он погибает на фронте. Арестовывают — за любовную связь с оккупантом — и одну из дочерей врача-спасителя…
Лейб Лангфус. В содрогании от злодейства. Новый мир, 2012, № 5
Еще одни записки члена зондеркоманды (впоследствии, видимо, ликвидированного). Как и в других такого рода текстах — бесконечный ужас, садизм, обесчеловечивание. Судя по всему, движимый какими-то собственными чувствами (может быть, желанием компенсировать позор своей службы?), Лангфус постоянно вкладывает в уста жертв книжно-патетические монологи, которые на самом деле они едва ли произносили.
Юлия Винер. Былое и выдумки. Эпизоды. Новый мир, 2012, № 6
Дочь еврейского писателя Меера Винера и внучка другого еврейского писателя, Ноаха Лурье, видела многих классиков. У Квитко маленькой девочкой испортила в энциклопедии рисунок, изображающий питона. Цветаеву встречала в гостях у дедушки. Платонов у мамы выпил тройной одеколон. Сама Юлия Винер пила помянутый одеколон с Виктором Некрасовым и Георгием Владимовым.
Достоин внимания один разговор с Юрием Домбровским — на тему еврейской эмиграции и сионизма:
— Ну, я с вами не могу согласиться. Мы к этому вопросу всегда относились иначе, чем русские. — Мы? — удивилась я. — Кто это? — Я имею в виду, польские аристократы. Они ведь евреев в свою страну сами позвали и все права дали. — А вы польский аристократ? Верно, фамилия у вас типично польская... Домбровский был человек недемонстративный и в личном общении скромный, поэтому ответил с некоторой запинкой: — Да нет, сам я, конечно, обыкновенный русский. Но род наш польский, аристократический и очень древний. <…> …В нашей семье из поколения в поколение передавалась реликвия, доказывающая древность нашего рода. Теперь она у меня, и я ею очень дорожу. — И что это? — Старая-престарая, бог знает какого века, грубая оловянная ложка с выгравированным на ручке именем моего пращура. — И как его звали? — Имя очень древнее, еще, видимо, языческое славянское, теперь его поляки совсем не употребляют, хотя оно, по-моему, очень красивое. Моего прапрапра звали Гедалья.
Как говорится, занавес.
Александр Хургин. Красные колготки. Рассказы. Октябрь, 2012, № 4
Исчерпав эмигрантские «сюжеты», писатель приступил к равнодушно-отстраненной, на манер казахского акына, фиксации незначительных жизненных событий и происшествий. Технически это делается неплохо, но глубинный художественный смысл пока неясен.
Одесский международный литературный фестиваль. Октябрь, 2012, № 5
Давид Маркиш, Асар Эппель, Юрий Кублановский — мало общего между этими писателями (одного из них, увы, уже нет), но, так же как Ирина Барметова, Елена Якович и многие другие участники Одесского международного литературного фестиваля, они говорят с трибуны более или менее одинаковые ритуальные слова, отмечают гостеприимство города, его жовиальность, его неувядающий юмор, называют ряд обязательных имен, которыми маркирована Одесса в истории русской культуры, в первую голову — Бабеля, затем, в разных сочетаниях, — Олешу, Багрицкого, Ильфа и Петрова, Утесова, Жаботинского, вплоть до Жванецкого…
Иные, впрочем, отличаются. Владимир Салимон читает не имеющие отношения к Одессе стихи, а Владислав Пьецух — не связанную с Одессой (правда, связанную с Украиной) прозу. Феликс Кохрит отыскивает параллели между Бабелем и своим дедом Давидом (хотя, как сам признается в постскриптуме, судьба его семьи скорее напоминает Мильгромов из романа Жаботинского). А вот настоящий внук Бабеля, Андрей Малаев-Бабель, пытается разобраться в мире, из которого вышел и о котором писал его дед, — и это выглядит очень трогательно. Внучка Ильи Ильфа Александра находит соответствия между Черноморском и Одессой (кто-то сомневался?) и — что любопытнее — обнаруживает в старой Одессе однофамильцев ильф-петровских героев: Фунта, Залкинда, Боур, Заузе и целых двух Берлаг. Клаудия Скандура, представитель Фонда Бродского, говорит о Борисе Херсонском, одесском поэте и стипендиате помянутого фонда, а заодно вспоминает, как Бродский в Одессе четыре десятилетия назад снимался в кино. Евгений Голубовский извлекает из забвения еще одного представителя «юго-западной школы» — поэта Петра Кроля.
Иные выступления выглядят интеллектуальной провокацией — сознательной или подсознательной. Так, Олег Кудрин предъявляет Бабелю строгий морально-политический счет с демократической и гуманистической позиций. Почему, спрашивается, писатель не заклеймил как следует красноармейцев из рассказа «Соль», изнасиловавших невинных девушек и расстрелявших представительницу свободного рынка? Почему он изобразил «не громимых евреев, а громящих евреев-налетчиков»? И вообще: «Бабель страшно ошибся в выборе друзей. И идей. И идеологии». Что здесь сказать? Критику, впервые открывшему для себя, что Бабель (как, впрочем, и практически все крупные писатели) не был «светлой личностью», можно порекомендовать переключиться на Надсона или Златовратского.
Заслуженный литературовед Николай Богомолов, обозревая вышедшие в Одессе филологические труды, между прочим обращает внимание на работу некоего Валерия Смирнова «Крошка Цахес Бабель». В ней утверждается, что автору «Конармии» незаслуженно досталась слава, которая причиталась иным писателям, использовавшим «одесский язык»: Лазарю Кармену, Семену Юшкевичу и другим. Смирнов наивно упрекает Бабеля за то, что тот не использовал «настоящий» диалект, а стилизовал, конструировал его — не догадываясь, что именно так и работает всякий большой писатель. «Разгадка… творческого метода Бабеля заключается в том, что для него на первом месте стояло слово» — гневно утверждает патриот «истинно одесской» речи. Богомолов считает это похвалой. Остается лишь согласиться с ним.
Валерий Попов как раз никого провоцировать как будто не хочет. Он хвалит нынешних одесских писателей. Но как и за что…
Литература негативная, маргинальная, кровавая может создаваться лишь рукой гения, каким был Бабель. Его гениальность как-то уравновешивает ужас событий. Нормальной же литературе… вполне достаточно материала нормальной жизни, и в ней есть достаточно эмоций, в том числе — положительных, и есть о чем писать. <…> И не будем сбивать авторов с пути разного рода претензиями, которые не имеют к ним никакого отношения. В последний день я пошел на Привоз и, не встретив там биндюжников и бандитов, ходил и смотрел. Обычный рынок, как везде. А ты что хотел? Беню Крика?
Конечно, это звучит очень обидно. Обида на нынешнее провинциальное состояние литературной Одессы явственно сквозит в выступлении Олега Губаря: «Одессу по-хорошему не инвестировали со времен военного коммунизма, а она, бедняжка, все плодоносила и плодоносила на проценты от архаических вложений, истощаясь и хирея...» Зато сейчас, стало быть, инвестируют: «Отреставрирован Оперный, на выходе “Большая Московская”. Построен новый стадион. Установлен памятник Бабелю. Продолжаются ежегодные международные фестивали: театральный, джазовый, музыкальные (“Два дня и две ночи” и др.), литературные. Выходят книги, журналы, альманахи — случается, хорошие… <…> И все это инвестиции в Одессу, в ее культуру, лепта в копилку будущего».
Что ж, даст бог — будущее будет. Досадно, если такой важный центр русской и еврейской культуры превратится в музей под открытым небом.
Давид Маркиш. Бесполезные ископаемые. Рассказ. Октябрь, 2012, № 6
Лейла Куртовна, несчастная женщина, живущая в кибитке на казахско-китайской границе (муж был писателем, большим человеком, но в постсоветское время, обеднев, ударился в религию и подался в отшельники-суфии, а там и вовсе помер), никогда не видела своего отца. Но считала (исходя из маминой случайной обмолвки), что тот был «австрияком Куртом». Даже идентифицировала его как-то в мамином фотоархиве. Но вот является старик из Израиля, Рувим Веселовский, и утверждает, что Лейла — его дочь. Женщина отказывается сменить воображаемого и любимого — по воображаемому образу — отца на незнакомца. На этом рассказ заканчивается. Интересно закручивавшийся сюжет никак не развит.
Владимир Байков. Персонажи питерской коммуналки. Рассказы. Урал, 2012, № 3
Среди персонажей — надомная шляпница Роза Яковлевна Шпарбер и тетя Рива Гуткина, к которой все время ходят надушенные молодые мужчины, хотя она немолода и отнюдь не хороша собой (впоследствии выяснилось, что тетя Рива — врач-венеролог). Написано живо, без особых претензий.
Евгений Никитин, Алена Чурбанова. За свой счет. Рассказы. Урал, 2012, № 6
Соавторы — представители молодого литературного поколения. 31-летний Евгений Никитин более известен как поэт, но, как и 27-летняя Алена Чурбанова, также входит в группу «ОБКЛЁП» (Общество клевой прозы). Проза в самом деле более или менее «клевая» — живая, лаконичная и динамичная. Один из текстов посвящен жизни русско-еврейских эмигрантов в Германии (Никитин успел там побывать в юности — между Молдавией, где родился, и Москвой, где обитает уже девять лет). В рассказе «Что доконало Сару» описано эмигрантское общежитие, в котором некоторые этажи занимают евреи, а некоторые — немцы-репатрианты из Казахстана. «Я был в своем роде уникальным. Во-первых, единственный в общаге молодой еврей. Во-вторых, единственный еврей в общаге, владеющий немецким». Общежитский секс. Жалкие общежитские свары — в том числе из-за посещения «чужого» сортира.
Сергей Боровиков. С Бабелем и без Бабеля. Рецензия на «Воспоминания» Антонины Пирожковой. Знамя, 2012, № 6
Пожалуй, самое интересное в этой рецензии — личные воспоминания про общение с Пирожковой в 1972 году:
…в одной из первых бесед Антонина Николаевна проявила — это я теперь понимаю — редкую перед незнакомым человеком откровенность. Она рассказала, что в КГБ ей не дали справку, аналогичную той, что выдали родственникам Михаила Кольцова: акт об уничтожении всех бумаг, изъятых при аресте; и она надеется, что рукописи Бабеля еще находятся где-то в недрах Лубянки. Тогда же я услышал от нее о незавершенной повести «Еврейка»…
Двадцать с лишним лет спустя рецензент в телефонном разговоре с Пирожковой упоминает об этой повести — и слышит в ответ: «повести-то, в сущности, нет». Нет в архивах и изъятых рукописей: все-таки уничтожили…
Дмитрий Калугин. Лестница Янкеля. Повесть. Нева, 2012, № 3
Опять — жанр семейной хроники. Писатель (обладатель глубоко русской фамилии!) рассказывает о детстве своего отца — от его имени. Материал нетривиальный: жизнь религиозной, «соблюдающей» еврейской семьи в послевоенном Горьком.
Отец (дед для автора), зеркальщик, работает ночью («считал, что в зеркалах не должны отражаться посторонние вещи, вместе с которыми внутрь могли бы проникнуть демоны»). Закончив работу, надевает талес, тфилн и садится за молитву. На Пейсах в доме тщательно убирают, ищут хомец. Регулярно посещают молельню (синагога снесена). В слова «гой», «голах», «клойстер», «цейлем» вкладывается всё подобающее напряжение. Мать благочестивее отца — но при том читает светскую литературу: переводы Толстого, Пушкина и Шекспира на идиш.
А сын? Сын оканчивает советскую школу, потом институт. Он растет в космополитическом дворовом мире, где противостояние «тех, кто с Волги» и «тех, кто с Оки» (город стоит на двух реках) кажется более актуальным, чем евреев и гоев. В сущности, происходит тот же процесс спонтанного отхода нового поколения от корней, что и где-нибудь в Вильне несколькими десятилетиями ранее. Но насколько различен мир, в который эти молодые люди уходят!
Григорий Никифорович. Два рассказа: Аксенов и Горенштейн. Нева, 2012, № 3
Сравниваются два ранних автобиографических рассказа о мальчике, осиротевшем (или разлученном с родителями) и оказавшемся в военные дни на берегах Волги: «Дом с башенкой» Горенштейна (1961) и «Завтраки сорок третьего года» Аксенова (1962). Рассказ Горенштейна (как и его творчество в целом) нравится критику больше:
Проза шестидесятников соотносится с прозой Горенштейна примерно так же, как гремевшие в двадцатые годы прошлого века прямолинейные плакаты Родченко с создаваемой в то же время «аналитической» живописью мало кому известного тогда художника Филонова. Родченко теперь полузабыт — его слава ушла вместе с реалиями и, что еще важнее, эстетикой модного тогда конструктивизма. А картины Филонова, завораживающие сложными изломами форм и столкновением цветов, сегодня считаются украшением лучших музеев мира.
Фактически это неверно: Родченко за пределами России по-прежнему известен больше, чем Филонов, и ни в каких «лучших музеях мира» работ последнего нет, так как он принципиально не продавал их за границу. Да и вообще едва ли стоит в такого рода статье подменять аналитику прямолинейными оценками. А что Горенштейн действительно более глубокий писатель, чем Аксенов — кажется, с этим сейчас никто уже и не спорит…
Михаил Юдсон. На постпоследнем берегу. Рассказ. Нева, 2012, № 4
Некто Миша Сидоров, израильский профессор, хлещет на тель-авивском пляже кошерную водку «Голда» с кошерными огурцами и произносит монолог, сплошь представляющий собой лингвистически-семиотическую игру, очень ловкую, но навязчивую (как обычно у Юдсона) и — в данном случае — местами рискованную:
…имел место эрзац-армагеддон: немцы с немцами из-за синайских лепешек и сражались дисциплинированно, орднунг ешь орднунг — фаланстеры с филистерами, перец с колбасой, сосиски с капустой. Скапустился ейный Тысячелетний рейх, докатился Рейновым колечком до Добра и Света! Прямо к Эреца крылечку! Паладины пивосвиные в дозоре — Зигфрид с Рихардом и Фридрих посередке! А пусть капут копытом бьет, кухарка управляет кирхой, бди — конь вран и нравом йехуди! Куда ни кинь глазом в процессе — у всех знаки различия просвечивают на воротнике, одна шая-лея! А и где Геся Гельфман, где мефитический Гершуни, где усредненный Гольденберг (шибеники, как сказала бы тетя Песя)?! Шоб перед спуском в Аид на веревке подмигнуть единоверцу: «А ид?»
Борис Шапиро. Солнечный мальчик. Короткий роман. Нева, 2012, № 4
Место действия — Черновцы, где «говорили по-румынски, по-украински, по-русски, немецки, французски, польски, чешски и кое-где даже по-фински и по-английски, но общим для всех языком был идиш». В основе сюжета — биографии нескольких еврейских мальчиков. Один из них — сын французских инженеров, сдуру приехавших строить социализм в СССР и получивших такую возможность после нескольких лет лагерей. Сам мальчик становится астрономом, занимается контактами с внеземными цивилизациями и погибает из-за происков КГБ… Пример того, как на самом выигрышном материале (послевоенные Черновцы!) можно написать надуманную и выспреннюю чушь.
Михаил Юдсон. Новая Лолита. Рецензия на книгу Нины Воронель «Черный маг». Нева, 2012, № 4
Юдсон рецензирует книгу, представляющую собой «перевертень Лолиты»: «Нина Воронель смотрит на драматургию неравных отношений зрелого мужчины и девочки-подростка глазами нимфетки, вовлеченной в круговерть взрослых коллизий. Этот ход определяет воздух повествования, полного раскованности, игры, улыбки, теплоты». Такова единственная оценочная фраза на всю статью. Остальной текст — словесная игра в патентованном юдсоновском духе.
Ирина Маулер. Стихи. Нева, 2012, № 5
Лирические раздумья русскоязычной израильской поэтессы — само собой, про непростую реальность новой родины:
Здесь слово Война знают маленькие дети И оно их пугает внезапной сиреной Днем, в комнате залитой солнцем, Ночью — останавливая сладкие сны В детской кроватке, в которой любимый мишка Так надежно прижат и обнят до утра.
Стихи, к сожалению, неряшливые и вялые.
Подготовил Валерий Шубинский
|
 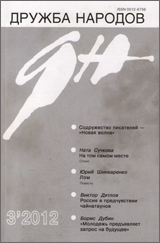   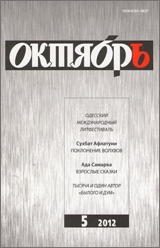   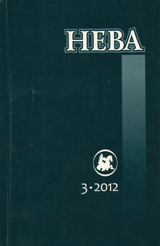 |


