|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 74 / Июнь 2008 Имена
К столетию Овсея Дриза |
|
||||||||||||||
|
III[1]
Дриз избежал того, чего не избежали многие еврейские литераторы в СССР — лагерей. На этом список его «достижений» в конце 1940‑х — первой половине 1950-х годов заканчивается. Он не публикуется ни в оригинале, ни в переводах, как не публикуется в стране в эти годы ни один из авторов, пишущих на идише. Поэт явно бедствует. Великая пианистка Мария Юдина писала о Дризе в одном из писем: «Приходил нищий замечательный еврейский поэт, перед жизнью коего — я — на верху благоденствия»[2].
В конце 1950-х годов советская еврейская литература «оттаивает». Начинают выходить оригинальные и переводные еврейские книги. Дриз тоже пытается вернуться в литературу, прежде всего — найти переводчиков для своих стихов. Об этих заботах мы знаем опять-таки из писем и воспоминаний Юдиной, которая много хлопотала за «нищего поэта». С предложением перевести Дриза она обращалась даже к Пастернаку, с которым дружила на протяжении многих лет. Увы, как и всегда, когда ему предлагали перевести еврейскую поэзию, Пастернак ответил нервным отказом[3]. Наконец в 1959 году вышел «Веселый пекарь» — первый сборник детских стихов Дриза в русских переводах. На свет появился советский детский поэт Овсей Дриз.
Он сразу родился «в рубашке». «Веселый пекарь» был издан немалым тиражом в 35 тысяч экземпляров. Предисловие написал маститый Лев Кассиль, переводы выполнила опытная Татьяна Спендиарова, рисунки — Наум Цейтлин, ставший надолго основным иллюстратором Дриза. А уже через год следующая детгизовская книжка «Глоток воды» имела тираж 300 тысяч. Дальше так год за годом и пошло.
Первым переводчиком Дриза была, как уже сказано, Татьяна Александровна Спендиарова (1902–1990), известная, прежде всего, переводами армянской поэзии, но немало переводившая и с идиша, в том числе детские стихи Льва Квитко. После нее было много других, среди них весьма именитые. По несколько стихотворений в разные годы перевели С.Маршак, С.Михалков, Б.Заходер, Б.Слуцкий, Ю.Мориц, Э.Мошковская. Много переводили Дриза Р.Сеф, Генрих Сапгир и его друг, рано умерший Г.Цыферов. Были и другие переводчики.
Между тем перевести лучшие детские стихи Дриза очень трудно. Они построены на чистом, ясном чувстве языка и, часто, на таком же чистом, ясном абсурде. При взгляде на такие стихи в первую очередь вспоминается Хармс. Приведу только один пример — начало стихотворения «Одер-одер» («Или-или») в оригинале[4] и подстрочном переводе:
Впрочем, все эти формалистические выверты и формальные трудности не слишком занимали переводчиков. Получалось не так экстремально, как в оригинале, но весело и трогательно — а чего еще желать от детских стихов?
У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. По устоявшемуся мнению, лучше всех получалось у друга Овсея Дриза поэта Генриха Сапгира (1928–1999). Аберрации памяти и просто самоуверенность приводят ряд современных авторов к утверждениям, что Сапгир переводил Дриза с самого начала, с первой его русской книжки[5], и что лишь сапгировские переводы поэзии Дриза достойны читательского внимания[6]. Некоторым даже кажется, что Сапгир был автором этой поэзии[7]. Все это, конечно, неправда. Сапгир не участвовал в первых русских книжках Дриза, а у других литераторов тоже есть удачные переводы. Но все‑таки Сапгир и по количеству, и по качеству переведенного, несомненно, «главный» переводчик Дриза. Точнее, тексты, обозначенные как переводы Сапгира, не являясь в полной мере переводами, в то же время наиболее художественно убедительны из всего, что можно назвать «русским» Дризом.
Существует легенда, что немолодой Дриз и молодой Сапгир познакомились в 1950-х годах в тех самых скульптурных мастерских Худфонда, где оба тогда работали, и что именно это знакомство позволило Дризу войти в столичный литературный мир. Эту легенду активно поддерживает в своих мемуарах художник Виктор Пивоваров. Два поэта, еврейский и русский, действительно работали некоторое время в одном и том же учреждении, но осознали они сей факт много позже, в середине 1960-х, когда познакомились там, где и полагалось знакомиться пишущим и сочиняющим, — в ресторане Центрального Дома литераторов[8]. К тому моменту у Дриза уже вышло несколько детских книжек на русском языке, а также и «взрослый» сборник «Вершина лета».
Судьба Сапгира как поэта сама по себе примечательна. Он принадлежал к одной из наиболее заметных литературных и художественных групп «второй культуры», так называемой «лианозовской школе», сформировавшейся вокруг поэта и художника Евгения Кропивницкого. Сапгир — одна из центральных фигур этой группы, вообще один из самых ярких и интересных русских поэтов второй половины ХХ века. В то же время его литературная судьба отличалась от судеб других «лианозовцев», от судьбы «второго авангарда» в целом. Как «просто поэт» он, подобно многим другим, до самой перестройки существовал только в сам- и тамиздате, но при этом активно печатался как поэт детский. В этом смысле биография Сапгира напоминает биографии авангардистов предыдущего поколения — обэриутов Хармса и Введенского, которые тоже «пошли» в детские поэты и были в этом качестве очень популярны. Примечательно, что как Сапгир переводил Дриза, так и Хармс переводил (хотя и в существенно меньших объемах) предшественника Дриза — Квитко.
Итак, в 1960-е годы в советскую детскую литературу пришло сразу два новых поэта — Генрих Сапгир и Овсей Дриз в переводах Генриха Сапгира.
Эти переводы Сапгира действительно очень хороши. С ними есть только одна проблема. Сравнение стихов Дриза на идише с переводами Сапгира и с оригинальными стихами самого Сапгира, написанными в 1960-х годах, показывает, что это не совсем Дриз, а гораздо больше Сапгир. Часто это совсем не Дриз. С точки зрения «добрых переводческих нравов», переводы Сапгира из Дриза — это, в лучшем случае, то, что называется «по мотивам». Хорошо это или плохо — вопрос праздный. Поэты дружили: их устраивал и творческий результат, и, боюсь, еще больше — гонорар.
Нужно отметить, что такова была общая практика переводов поэзии такого рода. Традиционная строгость, даже аскеза, принятая в советской переводческой школе, распространялась на классику, написанную на европейских языках. Классику переводили с оригинала, а не с подстрочника, а от переводчика ждали, что он «умрет» в переводимом авторе. Совсем не то происходило при переводах современников, особенно — с «малых» или «экзотических» языков. Особенно — когда речь шла о переводе с «языков народов СССР» на «язык СССР», то есть «русский советский». Особенно — при переводах детской поэзии. В сущности, сравнивая переводчика с, допустим, немецкого, и переводчика с, допустим, ненецкого, мы говорим о людях двух разных профессий. Можно сказать только, что переводы Сапгира, не отличаясь от прочих подобных избытком точности, выигрывали за счет гораздо большей любви к переводимому автору.
Не передавая форму стихов Дриза, Сапгир часто верно «схватывал» их дух. Поэтов сближала принадлежность к авангарду, хотя и к разным его поколениям. Дриз начал писать на закате авангарда классического, Сапгир пришел в литературу на заре «второго авангарда». Сближало их и отношение к поэзии как игре, веселому повседневному делу. Сближала способность к остраненному, одновременно любовному и ироническому, взгляду на окружающий мир. Сближал очевидный вкус к абсурду. И все‑таки переводы Сапгира — это не Дриз, это, повторю еще раз, «по мотивам». Вот «Турецкий дождь» — одно из самых известных и обаятельных стихотворений Дриза-Сапгира[9]:
Это, несомненно, очень хорошие стихи. Но вот что было в оригинале[10] (привожу подстрочный перевод):
Здесь, как в капле воды, видна разница между Дризом и Сапгиром. Сапгировские стихи полны деталей. В них есть своего рода сюжет. Сапгировский мышонок гораздо ближе к реальности: он турецкий — вот он и идет в Стамбул. Он пользуется понятной логикой: хотел купит феску и табак, а усы — так, в придачу (нельзя же в Турции носить феску и курить трубку без усов). Наконец, это наш, «советский» мышонок — «веселый бедняк», классово, так сказать, близкий. Текст Дриза аскетичнее, бескомпромисснее и, в конце концов, гораздо «авангарднее» своего перевода. Это стихи скорее странные, чем веселые, скорее абсурдные, чем детские. И мышонок в них — не турецкий «веселый бедняк», а несомненный еврей и безумец. Мне кажется, что и ритмически, интонационно оригинал также интересней перевода.
Сапгиру как переводчику Дриза мешало то, что он сам был «слишком» поэтом, причем природа его дарования была во многом иной, чем у Дриза. Дриз — минималист по самой природе своего таланта, поэт, которому ближе всего был бы Кузмин с его «кларизмом», с его поэтикой «прекрасной ясности». Или Пауль Целан, который стремился произнести в своих стихах как можно меньше слов. Или, например, Жак Превер, соединивший сюрреализм с уличной песенкой. Сапгир же, напротив, поэт не только «барачный», как называли лианозовцев, но и сугубо «барочный», избыточный, работающий со словами, а не с паузами между слов. Примитивизм Сапгира 1960-х годов — такой же прием, как и усложненность его стихов, пришедшая в 1970-х. Поэтически Дризу были гораздо ближе другие лианозовцы: Всеволод Некрасов, Ян Сатуновский и ближайший друг Сапгира и Дриза — Игорь Холин. Холин посвятил Дризу прекрасную поэму, которая очень похожа на лучшие «взрослые» стихи Дриза, но сам его стихов не переводил.
При обсуждении творческого дуэта Дриза и Сапгира возникает еще один серьезный вопрос: не приводило ли свободное отношение Сапгира к текстам переводимого им автора к тому, что в некоторых случаях он делал имя еврейского поэта своим псевдонимом? В общем корпусе переводов Сапгира самое заметное место принадлежит циклу «Хеломские мудрецы». Но ни в одной из публикаций Дриза на идише (включая посмертный сборник «Харбст») этого цикла нет, если не считать стихотворение «Может быть да, а может быть нет», которое по-еврейски в два раза короче своего русского перевода. Виктор Пивоваров прямо утверждает: «Некоторые поздние стихи Дриза, например из “Хеломских мудрецов”, вообще не имеют авторской рукописи»[12]. Прав ли он? Вольное обращение с фактами в воспоминаниях художника заставляет нас скептически отнестись и к этому его заявлению. Но вопрос тем не менее остается. Отыщется ли когда-нибудь в архивах оригинал «Хеломских мудрецов»?..
Так или иначе, но двуединый русский детский поэт Дриз-Сапгир состоялся. Шике Дриза, замечательного еврейского поэта, и «взрослого», и «детского», еще предстоит прочесть. Это не беда — почти вся еврейская поэзия пока остается закрытой для русского читателя, почему же Шике Дризу должно было повезти больше других?
Детского поэта Овсея Дриза ждали популярность и любовь многочисленных читателей, а «взрослый» — пропал, остался абсолютно незамеченным, и это при том, что «взрослый» Дриз — вот он, опубликован по-русски. «Кустарные» методы сыграли дурную шутку с сапгировскими переводами «взрослой» поэзии Дриза. Как я уже упоминал, в 1940-х годах Дриз создал поразительные верлибры — поразительные хотя бы самим фактом своего существования. Вот с ними-то Сапгир и не справился. Это ведь были не стихи для детей, в которых нужна темпераментная «игра в Дриза» (детям-то все равно — перевод это или не перевод, и кто там автор, а кто переводчик). Здесь требовалась серьезная переводческая работа. А это, повторюсь, совсем другая профессия. «Непереводческая» природа переводов Сапгира тем ярче заметна, что речь идет именно о верлибрах и других формах свободного стиха, устроенных формально достаточно просто. Вот как Сапгир перевел стихотворение «Цвишн стружкес» («Среди стружек»)[13], которое он назвал «Глаза дерева»[14]:
У Дриза, однако, было написано вот что (перевод мой):
Перевод Сапгира — нехороший перевод, более того — это вообще не перевод и даже не стихотворение «по мотивам», потому что получившийся текст, маскируясь под прогрессивный верлибр, утратил не только форму, но, что еще хуже, смысл переводимого произведения. Ни нарочитая и ненужная игра со звуком («почуял… кончину», «четыре черных свечи»), ни патетическое название не спасают положения. В переводе Сапгира стерта форма стихотворения (на самом деле это не верлибр, а дольник на основе трехсложника, местами близкий к анапесту), скомкан сюжет, пропала очевидная аллюзия на мидраш[15].
Отчасти этот перевод проливает свет на то, как происходила у Сапгира работа над текстами Дриза. Можно предположить, что Дриз читал свое произведение вслух по-еврейски, потом кое-как пересказывал его содержание. Из этого Сапгир — замечательный профессионал — быстренько делал стихотворение. Когда лучше, когда хуже. В данном случае, поскольку за формальные игровые приемы зацепиться было трудно, получилось хуже. Это, конечно, гипотеза, но весьма правдоподобная.
Со стихотворением «Цвишн стружкес» есть еще одна мелкая странность. В сборнике «Ди ферте струне» оно датировано 1944 годом, а в переводной книжке «Четвертая струна» — почему-то 1943-м. В данном случае дата не так уж важна, но в случае со стихотворением «Холем» («Виде́ние») дело обстоит иначе. Речь идет о замечательном и очень известном стихотворении, может быть — единственном широко известном «взрослом» стихотворении Дриза. В переводе Сапгира оно называется «Фиолетовый день»[16]. Именно о нем Матвей Гейзер с присущей ему восторженностью написал: «"Фиолетовый день" Дриза в переводе Г.Сапгира остается симфонией памяти и скорби, вошедшей в вечность»[17].
Совершенно очевидно, чему посвящено это стихотворение — похоронам великого актера и режиссера Соломона Михоэлса, убитого по приказу Сталина. Оно изобилует конкретными деталями. Упомянута Малая Бронная — улица, на которой был расположен ГОСЕТ. Упомянут Эйнштейн, с которым Михоэлс встречался во время своей поездки в США. Все ясно. Есть только одна проблема. Когда этот перевод Сапгира был впервые опубликован в сборнике «Четвертая струна» (изданном в 1975 году, уже после смерти Дриза), под ним стояла дата — 1947. Этот же год был воспроизведен и при следующих перепечатках «Фиолетового дня». Однако Михоэлс был убит в январе 1948 года, и в 1947-м Дриз никак не мог написать стихотворение его памяти и с описанием его похорон. Может быть, была допущена опечатка? Квалифицированный литературовед Леонид Кацис, воспроизводя «Фиолетовый день» в журнале «Лехаим» (2006. № 5), заменяет год его создания на 1948-й, никак специально это исправление не оговаривая. «Фиолетовый день» окончательно становится легитимным реквиемом по Михоэлсу.
Попытка взглянуть на оригинал (странная идея — ну зачем нужен оригинал на идише, когда есть замечательный перевод Сапгира?) приводит к неожиданным результатам. В прижизненном сборнике «Ди ферте струне» это стихотворение, как уже сказано, называется «Холем» («Виде́ние» или, может быть, «Сон») и датировано 1944 годом[18]. Посвящение Михоэлсу отсутствует. На самом деле выглядит оно так (перевод мой):
Это сюрреалистическое стихотворение, возможно, каким-то образом навеяно постановкой «Короля Лира» в ГОСЕТе и Михоэлсом, сыгравшим в ней главную роль, хотя никаких прямых параллелей со знаменитым спектаклем в тексте не видно. Нет оснований сомневаться и в его датировке. Может быть, датировка была ложной, маскирующей «крамольный» подтекст? Тогда непонятно, почему кого-то могли смутить цензурные рогатки в малотиражном издании на идише в 1969 году — и они же никого не испугали в русском издании, вышедшем много большим тиражом и в существенно более «строгие» 1970-е годы. «Виде́ние», очевидно, не имеет никакого отношения к похоронам великого актера.
Не менее чем различия темы в оригинале и в переводе значимы здесь и различия формы — нигде разница стилей Дриза и Сапгира не проявлялась столь же ярко. Пустоте и аскезе бескомпромиссных верлибров Дриза (невероятных для 1940-х годов) противостоит рифмованная избыточность «барочно-барачного», щеголяющего своим мастерством Сапгира. Встреча Дриза и Сапгира на пространстве этого стихотворения — это встреча старого авангардиста с московским стилягой образца 1960-х.
IV
Стихотворение «Виде́ние/Фиолетовый день» подтверждает простую мысль, с которой я начал эту статью: Шике Дриз и Овсей Дриз — два разных поэта. В этом тексте их пути окончательно разошлись.
Собственно говоря, о том, что Дризов не то два, не то полтора, подозревали еще современники при жизни поэта. Художник Виктор Пивоваров, друг и иллюстратор Дриза, пишет: «В 70-е годы в кругу московских концептуалистов появилось понятие персонажный автор. Это когда художник придумывает какого-то другого художника и рисует как бы “под него” или “за него”. До какой-то степени можно сказать, что Овсей Дриз, так, как мы его знаем, персонажный автор Сапгира. Генрих практически создал русского Дриза. Никто из нас не знает, каков Дриз на идиш. Мы знаем Дриза сапгировского. Это больше, чем перевод, даже больше, чем то, что называется конгениальный перевод. Некоторые поздние стихи Дриза… вообще не имеют авторской рукописи. Дриз иногда “наговаривал” подстрочник, а Генрих делал из него стихи. Но главное то, что он из себя “сконструировал” еврейского поэта, который стал частью русской поэзии. Надеюсь, это не будет вульгарно понято как умаление самого Дриза»[19].
Пивоваров, относящийся к Дризу с исключительной любовью, вообще много пишет о нем в своей мемуарной прозе. Позиция художника очевидна и характерна для российской имперской интеллигенции. Дриз как человек бесконечно восхищает Пивоварова. Дриз как «нацменский» поэт, с точки зрения Пивоварова, беспомощен, если существует вообще. Казалось бы, из утверждения «Никто из нас не знает, каков Дриз на идиш» автоматически следует отказ от суждений о нем как о поэте. Ничуть не бывало. Согласно Пивоварову, поэт, гениальный от природы, но лишенный способности писать по-русски, а значит и способности к полноценной стихотворной речи, нечленораздельно «наговаривает» нечто переводчику, который из этих стихийных интуиций и «делает стихи».
Более того, даже в такое полудикарское, но все-таки не лишенное признаков поэзии состояние Дриз, по Пивоварову, пришел именно благодаря соприкосновению с русскими поэтами. До этого, по мнению мемуариста, Дриз «писал какую-то военно-гражданственную ерундистику»[20]. Пивоваров рассказывает: «Не знаю, как это произошло, но Дриз сошелся с кругом неофициальных поэтов и с этого момента преобразился. Скорее всего, это преображение зрело в нем давно и только ждало какого-то незначительного внешнего импульса. Из поэта, пишущего по-еврейски, Дриз превратился в еврейского поэта. Очень трогательного, нежного, печального, с особым, сквозь слезу, юмором»[21]. Откуда же Пивоваров, не читающий на идише, знает про «ерундистику» и про «преображение» Дриза от встречи с русскими поэтами? Ведь до «преображения» он с ним знаком не был — познакомился лишь через Сапгира. Знает — и все тут. А ведь даже в сборниках на русском многие замечательные стихи, тот же «Фиолетовый день» (я сейчас не обсуждаю, как он соотносится с оригиналом), датированы 1930–1940-ми годами, когда Генрих Сапгир был еще подростком. Этого невозможно не заметить. Этого, при наличии «врожденного знания», замечать не нужно.
Русская культура катастрофически не умела (и не умеет до сих пор) говорить о еврейской культуре по существу. В этом неумении ее официальная и неофициальная части, как бы противостоящие друг другу, удивительно едины. Советский поэт Лев Озеров и «антисоветский» художник Виктор Пивоваров дружно создают образ доброго, наивного сказочника, чудака, «дитя с седой головой», человека не от мира сего, прочно связанного в своем творчестве с фольклором и миром детства. Искренняя доброжелательность, расположенность к старому поэту не исключает ни душевной лени, ни приторной пошлости пишущих. Вот цитата из статьи Льва Озерова: «Подчас мне кажется, что фамилия Дриз — это аббревиатура, то есть слово, составленное из начальных букв таких слов, как Детство, Радость и Здоровье или Доброта, Работа и Знанье»[22]. Воспоминания Пивоварова можно было бы легко свести к этой же «формуле», разве что расшифровав «З» как «запои». Художник, много наблюдавший за поэтом в быту, умильно пишет о его алкоголизме, который, впрочем, в этом кругу был характерен отнюдь не только для Дриза. При этом, рассказав пару анекдотов о дризовском беспробудном пьянстве, а также о том, что Сапгир сделал из «поэта, пишущего по‑еврейски, — еврейского поэта», Пивоваров с восхитительной непоследовательностью называет Дриза истинным «воплощением Поэта». Именно так, с большой буквы.
Кажется, чуть больше — если не в самом творчестве Дриза, то в той ложной ситуации, в которой оказался еврейский поэт, лишившись (или почти лишившись) своей среды и аудитории, — понял Борис Слуцкий, человек не только умный, но хлебнувший довоенного «еврейского воздуха». В стихотворении о похоронах Дриза он написал не без злой иронии, обращенной, правда, и на себя:
Кто с Овсеем выпивал, то есть собутыльники, Кто его переводил, то есть переводчики, Приоделись и блестят — новые полтинники! — Выделяясь красотой между всеми прочими[23].
Однако у Дриза, кроме собутыльников и переводчиков, были еще поэты-учителя и поэты-современники, с которыми его творчество находилось в напряженном диалоге. Он вошел в еврейскую литературу, когда она была на пике своего недолгого расцвета. В ней действовало старшее, но еще совсем не старое, поколение поэтов — Гофштейн, Квитко, Маркиш. Существовали еврейские издательства, журналы, театры. Существовала заинтересованная читательская аудитория. Очень существенно, что тогда, на рубеже 1920–1930-х годов, советская еврейская литература еще продолжала оставаться частью мировой литературы на идише. На молодого Дриза влияли не только советские, но и зарубежные еврейские поэты. Воспоминания Пивоварова сохранили одно поистине бесценное свидетельство:
Витя (Пивоваров пишет о себе в третьем лице. — В.Д.) спросил Дриза, есть ли у него свои боги в поэзии. — Да, есть, — ответил Овсей Овсеич, — их три. Франсуа Вийон, Роберт Бёрнс, мне особенно близкий, и один еврейский поэт, живущий в Америке, Гальперин, совершенно изумительный поэт, которого тут в России никто не знает[24].
Ну, положим, Вийон с Бёрнсом понадобились Дризу для того, чтобы обозначить свою «природность», «народность» и тот неоспоримый факт, что и на «низком» языке (шотландском или идише) можно создавать поэзию, которую оценят если не современники, то потомки. А вот упоминание Мойше-Лейба Галперна — это уже всерьез. Действительно, его в России никто не знает. Между тем это крупнейший еврейский поэт и просто один из величайших поэтов ХХ века. Он повлиял не только на Дриза, но на всю еврейскую поэзию.
Из мемуаров Пивоварова возникает ощущение, что московская богема подобрала одинокого старика, бормочущего непонятные стихи на непонятном языке. Но даже из посвящений к стихам Дриза видно, что в те же годы он общался с чудом уцелевшими классиками еврейской литературы старшего поколения — поэтом Шмуэлем Галкиным, поэтом и театральным режиссером Янкевом Штернбергом. Оба они были не только прекрасными поэтами, но людьми с превосходным еврейским и европейским образованием. Другие адресаты стихов Дриза — его сверстники, поэты Мойше Тейф, Иосиф Керлер и Мотл Грубиян. Вероятно, они могли бы рассказать о Дризе нечто более содержательное, чем описание пьянок и чудачеств. Увы, спросить давно уже некого. Конечно, кроме еврейских поэтов Дриз дружил с поэтами-лианозовцами, Холиным и Сапгиром. Его литературная судьба — как рифма к их судьбам. Что хуже, а что лучше: чтобы тебя массово печатали в сомнительных переводах и не читали — или чтоб не печатали, но читали? Что лучше, а что хуже: писать и публиковать безо всякой цензуры стихи на языке, на котором в СССР почти не осталось читателей, — или писать на языке огромной потенциальной аудитории, к которой, впрочем, цензура не пропускает? Одер-одер-одеробе… [1] Окончание. Начало см.: «Народ Книги в мире книг» № 73. [2] Юдина М.В. Вы спасетесь через музыку. М., 2005. С. 192. Цитируемое письмо датировано декабрем 1957 года. Включенный в эту книгу текст «Воспоминания об Овсее Овсеевиче Дризе», к сожалению, крайне беден фактическим материалом. Мельком вспомнив, как Дриз пел свои стихи о Бабьем Яре, Юдина начинает, как это было для нее характерно, горячо рассуждать на моральные темы. [3] См.: Юдина М.В. Жизнь полна смысла: Переписка 1956–1959 гг. М., 2008. С. 284. [4] Оригинал см.: Sovetish heymland. 1961. № 3. Z. 86 (несколько измененная версия: Driz Sh. Di ferte strune. Moskve, 1969. Z. 188–189). Поэтический перевод этого стихотворения, выполненный М.Замаховской и названный ею «Моя бабушка», см.: Дриз О. Белое пламя. М., 1990. С. 274. [5] Вот пример: «В 1959 году вышел на русском языке его сборник "Веселый пекарь". В нем было много переводов Г.Сапгира» (Гейзер М. Фантастическая реальность Генриха Сапгира; цит. по сайту www.sem40.ru). На самом деле в книге «Веселый пекарь», как и в других ранних русских изданиях Дриза, переводов Сапгира нет. Сборник «Я и мама» — первая книга Дриза, переведенная Сапгиром, — выйдет в свет лишь в 1966 году. [6] Вот комментарий из авторитетной антологии: «Дриза переводил не один Сапгир, но перечитывать нынче можно и должно только эти переводы — шедевры, достойные Шолом-Алейхема» (Витковский Е.В. Строфы века — 2: Антология мировой поэзии в рус. пер. ХХ в. М., 1998. С. 644). Поражает лень ума: единственный способ похвалить еврейского поэта, пишущего в ХХ веке, это сравнить его с прозаиком предыдущего столетия — Шолом-Алейхемом. Фраза примерно такой же осмысленности, как, допустим, «Стихотворения Бродского — шедевры, достойные Льва Толстого». [7] Критик Сергей Чупринин, рассуждая о природе литературных мистификаций, о вымышленных авторах, вроде Козьмы Пруткова, приводит в качестве примера пару Дриз-Сапгир. Предельно жестко толкуя двусмысленные воспоминания художника Виктора Пивоварова о Дризе, он приходит к выводу, что Генрих Сапгир «своими переводами практически “породил” еврейского поэта Овсея Дриза» (Чупринин С. Еще раз к вопросу о картографии вымысла // Знамя. 2006. № 11. С. 172). [8] Благодарю Феликса Дектора, поделившегося с редакцией «Народа Книги в мире книг» своими воспоминаниями об этом периоде жизни Овсея Дриза. В начале 1960-х годов Дектор работал в Детгизе и готовил к печати сборник Дриза «Зеленые портные» (1963). Им же были выполнены переводы нескольких стихотворений, вошедших в этот сборник. [9] Приводится по: Дриз О. Моя песенка. М., 1988. С. 186–187. [10] См.: Driz Sh. Di ferte strune. Z. 212. [11] Название я перевести не берусь. Это непереводимая игра слов, так как «мышка» (mayzl) и «судьба/удача» (mazl) на родном для Дриза подольском диалекте идиша являются омофонами — и то и другое звучит как «мазл». [12] Пивоваров В. Его голос // Великий Генрих: Сапгир и о Сапгире. М., 2003. С. 328. [13] Оригинал см.: Driz Sh. Di ferte strune. Z. 130–131. [14] Приводится по: Дриз О. Белое пламя. С. 248. [15] Ср.: «Когда Господь сотворил железо, то деревья вострепетали. — Горе нам, мы погибли! — сказали они. — Железный топор обрубит наши зеленые ветви. — Не бойтесь! — раздался голос свыше. — Не давайте только железу вашего дерева на топорище, и оно не в состоянии будет причинить вам зло. Точно также человек не должен давать воли своим дурным страстям, чтобы они не овладели им (Берешит-рабба, 5)» (Гибш А.Л. Из Талмуда и Мидраша. Одесса, 1904. Ч. 2. С. 27). [16] Ниже приводится по: Дриз О. Белое пламя. С. 256–257. [17] Гейзер М. Фантастическая реальность Генриха Сапгира. [18] См.: Driz Sh. Di ferte strune. Z. 137–138. [19] Пивоваров В. Его голос. С. 328. [20] Пивоваров В. Влюбленный агент. М., 2001. С. 73. [21] Там же. С. 74–75. [22] Озеров Л. Дитя с седой головой // Дриз О. Четвертая струна. М., 1975. С. 4. [23] Слуцкий Б. Оптимистические похороны // Слуцкий Б. Сроки. М., 1984. С. 107. [24] Пивоваров В. Серые тетради. М., 2002. С. 121. |
       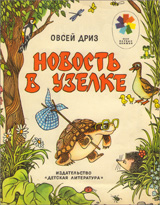     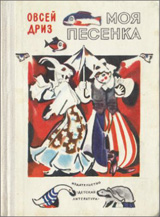          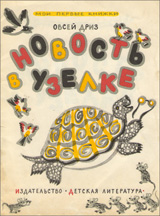 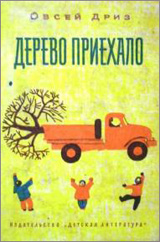  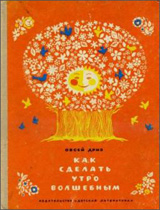   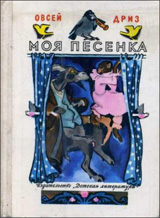      |


